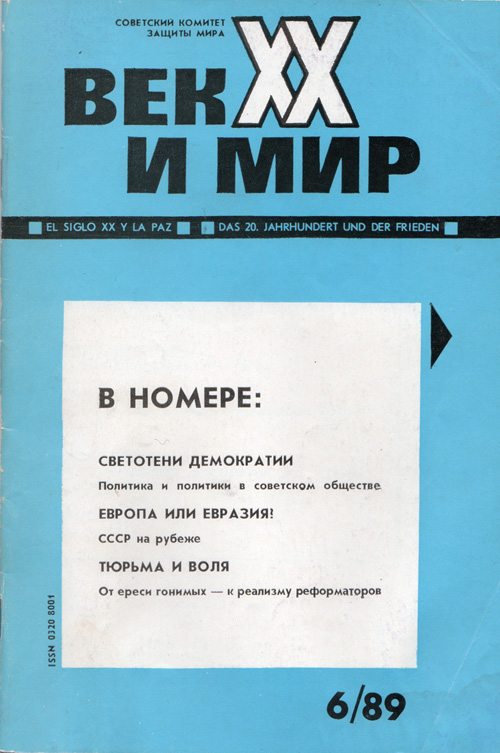 ОХРАНИТЕЛИ И РАДИКАЛЫ
ОХРАНИТЕЛИ И РАДИКАЛЫ
Странности политического спектра в СССР
№6 1989
Любая попытка определить, кто у нас «левые» и кто «правые», наталкивается на непреодолимые трудности. Попробуем определить, какое место в нашем политическом спектре занимает, скажем, Солженицын. Вроде бы, по всем формальным признакам он — правый, раз Октябрьскую революцию он прямо проклинает, а февральскую — «не одобряет». Но назвать его правым как-то язык не поворачивается, да и ничего это не дает, ибо ясно, что он куда ближе к апеллировавшему к идеалам революции Твардовскому, чем оба они, например, к Кочетову. Нам легче сказать, кто «левый» и кто «правый» во Франции, чем сказать, кто правый и левый у нас. Ясно, что Жискар д’Эстен правее Миттерана, а Миттеран — Марше. Но Ельцин правее или левее Лигачева? Горбачев — левее или правее Брежнева? Что же произошло с нашим политическим спектром? Когда традиционная классификация перестала работать?
* * *
До Октябрьской революции общеевропейская классификация политических на правлений на «левые» и «правые», воз
никшая во время Великой французской революции, была вполне применима к России. Конечно, применима не идеально (например, кто «левее» — анархист или большевик, эсер или меньшевик?), но в целом все понимали, что такое «левый» и что такое «правый». «Левый» устремлен к «прекрасному будущему», «правый» — к «прекрасному прошлому», «левый» — интернационалист, «правый» — националист, «левый» — за свободу и равенство, «правый» — за порядок и иерархию, «левый» — атеист, «правый» — религиозен. Между крайне «правой», олицетворяемой «черносотенцами», и крайне «левой» располагались все прочие. Ясно, что октябрист— левее монархиста-черносотенца, кадет — левее октябриста, меньшевик правее большевика. И опять-таки, как во всем мире, так и у нас было некоторое сходство крайне левых и крайне правых — сходство не в «векторе» идеологии, а в ее интенсивности. И те, и другие были — «крайние», непримиримые, бескомпромиссные. Терпимость, готовность к сосуществованию с другими идеологиями, к правовому регулированию борьбы за власть была скорее в «средней» части спектра, у нас, в силу особенностей политической культуры и социальной структуры нашего дооктябрьского общества, очень слабой.
Октябрьская революция означала победу крайне левой фракции политического спектра. Все прочие фракции, кроме этой крайне левой, ушли в эмиграцию или в подполье. Но это еще не означало, что классификация «левые — правые» перестала работать. В рамках крайне левой были свои совсем крайние. Для черносотенца, разумеется, различия между Троцким и Бухариным — это различия между «синим и желтым чертями», и тем не менее Троцкий был левее Бухарина: более интернационалистичен, более склонен жертвовать всем во имя будущего, менее терпим к сохранению старой иерархии богатства, более нетерпим к тем, кто правее… Когда же эта классификация начисто перестает работать? Во времена диктатуры Сталина.
Сталин — вроде бы, несомненный крайне левый. Он «построил социализм», «строил коммунизм», провел коллективизацию (до которой не додумался сам ультралевый Троцкий) и покончил с «остатками эксплуататорских классов». Но чем более он проводит в жизнь свою «крайне-левую» программу, тем более в его идеологии парадоксальным образом проглядывают «крайне-правые» черты. Этот «классик марксизма» все более отчетливо начинает воспринимать себя и воспринимается другими как новый Иван Грозный. Этот строитель коммунизма все более возрождает великодержавную политику, великорусский шовинизм и антисемитизм. Ему славословят и европейские коммунисты и патриарх Московский и Всея Руси. Немало представителей дореволюционной «правой», ушедших в духовное подполье или эмиграцию (вплоть до харбинских русских фашистов),—-люди, которым была глубоко отвратительна «кадетско-эсеровская говорильня» и чуть не погубивший Россию «еврейский шабаш», вдруг прозревают — тот, кто казался воплощением зла, как раз и не зло. «Великая русская смута» кончилась, и Россия вновь пришла в норму. И пускай идеология в России сейчас — странная, но «Россия остается Россией».1 Сталин «ломает» традиционную политическую классификацию и выключает Россию из общемировой политической классификационной системы. Почему это происходит? Ясно, что здесь дело не в личности Сталина. Дело в причинах значительно более глубоких.
Прежде всего, дело в том сходстве «крайностей», о котором мы уже говорили. И крайне левая, и крайне правая — бескомпромиссны и нетерпимы. Для людей, психологически не приемлющих идейной неопределенности и терпимости, переход от крайне правой к крайне левой — легче, чем переход к умеренно правой. И это сходство становится все больше по мере того, как левая диктатура укрепляется и ожесточается — «говорильни» становится все меньше, порядок становится все более «железным». Но не только порядок, догматизм, иерархичность сближают сталинский режим с идеалами крайне правых. Происходят еще более удивительные, но совершенно закономерные «переходы противоположностей». Если крайне интернационалистическая идеология побеждает в «одной, отдельно взятой стране», оказывается важнейшим источником ее силы, скрепляет многонациональное государство и обеспечивает ему поддержку интернационалистов за границей, то естественным образом она начинает приобретать националистическую окраску. Интернационалистический большевизм приобретает оттенок идеологии «Великой России». И как интернационалистическая идеология приобретает функции идеологии великодержавной, таким же парадоксальным образом революционная идеология приобретает функции идеологии традиционной — чем дальше в прошлое уходит революция, тем более ее идеология становится «верой отцов».
Сталинизм создает систему тотального террора, которая как бы пожирает самое себя — она уничтожает свой собственный правящий слой. Дальнейшее движение в сторону еще большего тоталитаризма, очевидно, было просто немыслимо. От кровавого террора и чудовищного напряжения устали все — верхи не меньше, чем низы, и сразу же после смерти Сталина начинается движение к большей свободе, движение освободительное.
Но это освободительное движение сохраняет ту же «идеологическую двусмысленность», которая была присуща сталинской идеологической системе, от которой оно отталкивается.
Если есть распадающаяся, слабеющая тоталитарная система, всегда есть определенный спектр отношений к этой системе. Всегда есть охранители, либералы-эволюционисты и радикалы-революционеры. Такой спектр был, когда распадалось российское самодержавие, возник он и в процессе распада нового сталинистского «самодержавия». Но в нашей ситуации он находится в «ненормальном» отношении к спектру «левые-правые», причем буквальное содержание идеологических символов и их функции находятся в вопиющем противоречии друг с другом.
Наши охранители, как и все охранители мира,— за традицию, порядок, государственность, иерархию. Их стремления — диаметрально противоположны стремлениям тех, кто делал нашу революцию. Их психология неизмеримо ближе к психологии царских чиновников, чем к психологии Ленина, Бухарина, Троцкого. И эта психология в какой-то мере прорывается наружу в идеологической символике—в любви к традициям русской воинской славы, в эстетических вкусах — отвращению к революционному искусству авангарда и любви к классике, в нелюбви к «гнилому Западу». Но как Сталин не мог стать просто «русским монархом», ибо основной источник его легитимации — все же в том, что он «верный ленинец» и «классик марксизма», так и охранители созданной им системы не могут просто отбросить «крайне-левые» революционные лозунги и символы. Нет ничего фантастичнее, чем Победоносцев, ссылающийся на авторитет Маркса и Ленина. Но эту фантастику мы могли наблюдать каждый день.
Наши либералы опять-таки, как все либералы мира,— за постепенное движение ко все большей свободе при сохранении преемственности институтов и идеологических символов. Им глубоко противен сталинизм, но они, как либералы прошлого — начала нашего века, боятся народных страстей и тоталитарных потенций экстремистских движений.
Либералы естественным образом ориентируются на демократические традиции нашей идеологии—на Маркса, поскольку он против прусской цензуры, на Ленина, поскольку он против бюрократии, против насилия над крестьянами, поскольку при нем в партии были дискуссии, внутрипартийная демократия. Поздние работы Ленина и Бухарина—их основные идеологические символы. И здесь, пожалуй, противоречий содержания символов и их функций — меньше, чем в случае охранителей, но все же оно есть и у либералов. Ибо наши либералы — функциональный эквивалент не Бухарина и даже не меньшевиков, а скорее кадетов. И пусть Милюков, опирающийся на ленинские работы,— фигура менее гротескная, чем опирающийся на Ленина Победоносцев, но все же — достаточно гротескная.
Либералы, с одной стороны, примыкают к охранительству, с которым они могут в определенных ситуациях блокироваться против экстремистов-радикалов, с другой стороны — к радикалам, с которыми они могут блокироваться против охранительства. Наши радикалы, как и все радикалы — отвергают систему целиком, отвергают сами ее идейные и институциональные основания. Но тут получается что-то совсем чудное — никак не менее чудное, чем в случае охранителей. По своему отношению к системе они — революционеры. Солженицын— наш аналог Чернышевского. В увешанных иконами московских квартирах живут люди, психологически близкие к участникам марксистских кружков конца XIX—начала XX веков. Символика, которая когда-то была символикой охранительства или, во всяком случае, лояльности, стала символикой радикализма. И чем больше радикализм, тем больше противоречие функции идеологии и ее содержания. Самый крайний наш радикал — это человек, видящий в революции не просто «ошибку», досадное стечение исторических обстоятельств, а результат «жидо-масон-ского заговора» — это черносотенец, это ультраохранитель прошлого. При этом крайности опять-таки сходятся. Наши ультраохранители имеют несомненные «тайные симпатии» к нашим ультрарадикалам, т. е. ультраохранителям прошлого, занявшим в нашем «идеологическом танце» место ультрарадикалов.
Таким образом, мы видим, что все у нас «поменялись местами». Но значит ли это, что идет тот же процесс, который шел в России до 1917 года (или до 30-х гг.), но в обратном направлении? Отчасти — да, но лишь отчасти, ибо содержание идеологии не безразлично по отношению к ее функции. Когда маятник идет назад, он идет совсем иначе, чем когда он шел вперед.
Мы видели, что содержание идеологии и ее функции у нас противоречат друг другу. И если в центре нашего политического спектра это противоречие еще не так велико, то на крайних флангах оно совершенно грандиозно.
По настроению наш радикал — революционер, ибо он отвергает строй в целом и его легитимизирующие основания, но ведь основная легитимизация нашего строя — в революции. И значит, он отвергает саму идею революции. Поэтому Чернышевский мог звать Русь к топору, а его аналог во втором акте нашей драмы — Солженицын — может звать ее лишь к покаянию. Далее, радикал-националист видит, что великим русское государство может быть лишь как основная часть Советского Союза, а Советский Союз может существовать лишь пока его идеология интернационалистична! Радикал запутывается в противоречиях радикализма — противоречиях объективных, созданных самой историей, и это ведет к своего рода бессилию. Поэтому-то наша перестройка возникает отнюдь не в результате давления радикальных движений. Царизм дал урезанные демократические права под дулом пистолета — после длительного революционного движения, в конце концов переросшего в революцию 1905 года. Наша верхушка пошла на демократизацию сама — в результате победы в ней либеральной группировки.
Если в слабости сопротивления в эпоху «застоя» проявились внутренние идейные противоречия и слабости нашего радикализма, то внутренние идейные противоречия и слабости охранительства проявляются, по-моему, в слабости сопротивления перестройке. О сопротивлении перестройке у нас говорят очень много. Но мне кажется, что сопротивление это,— скорее мышиная возня с целью сохранить свои зарплаты, чем настоящее идейное сопротивление. Против Горбачева при тайном голосовании в ЦК — ничтожное меньшинство. Как при «застое» никто по-настоящему не боролся с системой, так при «перестройке» нет настоящей сознательной борьбы с ней. У нас нет ни настоящих «революционеров», ни настоящих «охранителей», готовых на смерть за свои идеи.
И опять-таки, дело тут не в личной, а в идейной «трусости». Во-первых, охранители вообще оказываются в трудном положении, когда либеральную политику проводит как раз та власть, которую они «охраняют» — не выступать же им открыто против ЦК КПСС. Но и это — не самое важное. Самое важное-— что исповедуя, пусть формально, революционную идеологию, трудно быть настоящим идейным охранителем. Наш охранитель не может честно сказать: «Я — против власти народа, против прогресса, за автократию», как это мог сказать, например, Константин Леонтьев. Охранитель наш — такой же идейно слабый, как идейно слаб наш радикал. Таким образом, наше освободительное движение разворачивается при неизмеримо большей слабости и радикальных сил, с их потенциями нового тоталитаризма, и охранительных сил, чем освободительное движение в царской России. Мне думается, что когда распадается система типа русского самодержавия, или система, созданная Сталиным, основная опасность — не в том, что она не распадется,— распад ее неминуем, как неминуема смерть старого и больного человека, а в том, что на смену ей может прийти какой-то новый тоталитаризм, опасность — в той духовной «инерции», которая возникает в ходе освободительных движений, так часто в истории «проскакивавших» состояние свободы и вновь входивших в тоталитаризм — через эпоху Учредительного Собрания и жирондистов к Робеспьеру, через 1905 и 1917 годы к 1930 и 1937 годам.
Но сейчас очень много факторов помогают нам не «проскочить» открывающуюся перед нами свободу. Это и социальные факторы, и факторы международные, и факторы, связанные с общемировой идейной ситуацией. И один из этих факторов — те странности нашего политического спектра, которые мы пытались показать и которые ослабляют наши крайние, экстремистские силы. И может быть, эту «странность» следует рассматривать как великое благо, пусть купленное дорогой ценой, как одно из завоеваний нашей революции.
1. Мне думается, что эта «двусмысленность» Сталина отражается в бул-гаковском образе Воланда, Для многих бывших «правых» Сталин был как бы Воландом — это самое воплощение зла, которое оказывается как раз и не зло.



