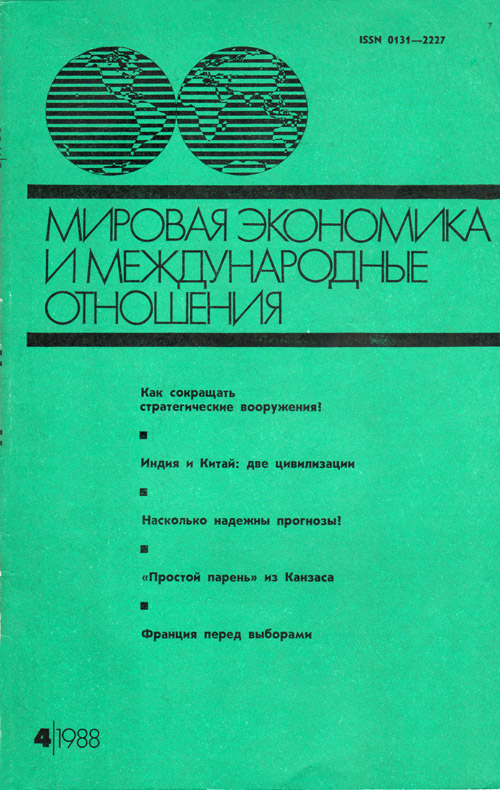 ИНДИЯ И КИТАЙ: ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ- ДВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ИНДИЯ И КИТАЙ: ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ- ДВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
Круглый стол «МЭ и МО»
НАЧАЛО 4 1988 PDFфайлЭтой теме было посвящено заседание теоретического семинара отдела экономики и политики развивающихся стран ИМЭМО АН СССР, на котором с сообщениями выступили известные советские ученые, сотрудники Института востоковедения АН СССР индолог, д. и. н. Л. Б. АЛАЕВ и китаевед д. и. н. Л. С. ВАСИЛЬЕВ. В обсуждении поставленных ими вопросов приняли участие д. и. н. Д. Е. ФУРМАН (ИСК АН СССР), к. и. н. А. Б. ЗУБОВ (ИВ АН СССР), д. и. н. М. А. ПЕШКОВ, д. э. н. В. Л. ШЕЙНИС (ИМЭМО АН СССР). Вел заседание д. и. н. В. Г. ХОРОС (ИМЭМО АН СССР).
Ниже публикуются материалы состоявшегося обмена мнениями ученых в удобной для читателей форме — в виде «круглого стола».
В. Хорос: Настоящее не может быть понято без прошлого. Эта истина кажется бесспорной, даже тривиальной. Но ее очень часто забывают. В общественных науках современность и история, как правило, разъединены, интересы специалистов по соответствующим отраслям пересекаются редко. В тех же случаях, когда это происходит, оказывается, что состыковывать сегодняшнее и вчерашнее, не впадая при этом в модернизацию истории или не теряя ощущения неповторимости современного, не так уж просто.
Но сегодня мы попробуем соединить воедино седую древность и современность, тем более что в анализ вводится элемент сравнения, а материал для сравнения выбран поистине благодатный. Индия и Китай. …Эти две страны составляют почти полмира. Это мощные, древние и до сих пор «живые» цивилизации, донесшие до сегодняшнего дня институты и ценности тысячелетий. Это общественные структуры, которые сегодня подвергаются интенсивному процессу модернизации, изменений, происходящих буквально у нас на глазах. Это, наконец, государства разной социально-политической ориентации, оказывающие всевозрастающее влияние на мировое сообщество, особенно на развивающиеся страны.
Давайте построим наш обмен мнениями следующим образом. Сначала наши основные собеседники дадут общую характеристику индийской и китайской цивилизаций, особенностей их формационного развития. Далее будут рассмотрены процесс модернизации в обеих странах и его результаты на сегодняшний день. Наконец, мы попробуем охарактеризовать тенденции и перспективы развития избранных стран, роль Индии и Китая в современном мире. Может быть, вы начнете, Леонид Борисович?
Л. Алаев: Не возражаю. Вы верно заметили, Владимир Георгиевич, что требование историзма при подходе к анализу современности звучит постоянно. Приизучении развивающихся стран, особенно стран Востока, это требование нередко формулируется как необходимость учета традиции, традиционных факторов. Между тем действительный учет факторов и наслоений тысячелетней истории затруднен многими обстоятельствами: например, дифференциацией наук, когда экономист, политолог, историк — все это разные лица; но главным образом еще и специфическим способом познания истории Востока, проистекающим из вульгарного применения марксистского исто-рико-материалистического метода. Даже если сейчас установить тесную теоретическую связь между «третьемирцами» и историками-востоковедами, то историки мало что дадут «современникам». Десятилетиями привыкали они подгонять историю Востока под стереотипы Запада, обращать внимание прежде всего на «общее», а «специфику» рассматривать как нечто второстепенное, не представляющее интереса. В нашем востоковедении сложилась традиция заменять понятия конкретные, страновые, категориями родовыми, теоретическими, которые в конечном счете оказывались понятиями европейскими. Тем самым в значительной мере нарушалась диалектическая взаимосвязь общего и особенного.
Мы называли некий институт «общиной», и тогда сразу у нас в голове возникали русский «мир», германская марка, и самим словоупотреблением мы фактически подменяли реальный социальный индийский институт той общиной, которая нам рисовалась по другим материалам, в других контекстах. Как только мы упоминали касту, мы должны были сразу же определять ее как «разновидность цеха» или «разновидность сословия». Если мы хотели сказать, что существовала налоговая эксплуатация, то мы выражались «рента-налог». Но за «рентой» стоят целые пласты теоретического материала, который при таком
65
словоупотреблении вклинивался в размышления, материала, не имеющего отношения к тому, о чем в данном случае шла речь.
Конечно, без слов литературного русского языка, который теперь обогащен иностранными словами, пришедшими главным образом с Запада, нельзя обойтись при любой литературной работе. Просто надо видеть опасность перевода восточных реалий на общепонятный язык. Далеко не всегда следует считать такое переназвание достижением.
Я особенно страдал от широкого употребления таких терминов, как «феодал» и «крестьянин». Вместо того, чтобы писать тимариот, заим, джагирдар, заминдар, заменяли все эти слова на термин «феодал», а потом уже употребляли только его, и как бы само собой возникало общество, идентичное европейскому. То же самое происходило с «крестьянством». А это еще более прискорбно, потому что, по моему мнению, во многих странах Востока крестьянства в нашем или общераспространенном понимании никогда не было и нет. Оно разбито на различные слои, которые должны быть по-иному определены. Когда уже хотели окончательно «все понять», начинали применять такие выражения, как «помещик» и «мужик». Например, писали «индийский мужик». Подобное словоупотребление заключало в себе самообман и влекло ошибочные политические выводы.
Теория формаций применялась к Востоку тоже как бы путем перевода с языка на язык, переназвания, которое означало перенос европейских реалий на Восток. Недостатки такого применения теории формаций к Востоку заключаются не в том, что будто бы порочна сама идея перехода с этапа на этап, и не в том, что невозможно сопоставление этапов, через которые прошли Восток и Запад. На уровне здравого смысла ясно, что по степени развития Восток и Запад в определенные периоды были близки, так что проблема сопоставления этапов их развития научно вполне состоятельна.
Недостатки применения теории формаций заключаются в другом. Теоретически сырой европейский материал принимается за эталон, и затем этот эталон любыми способами выискивается в странах Востока, иногда «с особенностями», а иногда и без таковых. Например, чтобы найти рабовладение на древнем Востоке, берут заведомо малозначащий институт, объявляют его «формационнообразующим», а все то, что действительно важно, но не нужно для концепции, отбрасывается. Так, для концепции рабовладельческого строя в Индии не нужны были ни налоговая эксплуатация, ни сельская община, ни кастовый строй, и в описаниях древнего общества они оттеснялись на задний план. По тем же причинам неудовлетворителен принятый способ распространения концепции феодализма на восточное средневековье:
этот метод заключается в поисках феодала и крестьянина и в отбрасывании всего того, что считалось второстепенным — той же касты и той же общины. Правда, понятие налога в концепцию «восточного феодализма» входит, становясь «рентой-налогом».
Так же неудовлетворительна, по моему убеждению, и концепция «азиатского» способа производства. Для нее тоже не нужно ничего того, что не входит в простое отношение «государство — труженик», будь то индийская каста или реальная индийская община с ее внутренними социально-экономическими противоречиями. (Используемое «азиатчинами» понятие общины — чисто умозрительное, что-то вроде «коллективного эксплуатируемого». Такой общины в Индии, например, не было.)
Надо учитывать, что формационная теория первоначально разрабатывалась на западноевропейском материале и во многом несет печать своего происхождения — в наименованиях основных этапов развития, представлениях об облике общества на этих этапах. В дальнейшем она была распространена на весь мир без достаточной теоретической работы по ее приспособлению к функциям теории всемирно-исторического процесса. Образовался значительный разрыв между теорией формаций, претендующей на всеобщность, и закономерностями, работающими на более низких, конкретно-исторических уровнях. Я выступаю только против игнорирования этого разрыва, против применения в качестве исследовательских орудий тех голых схем, которые образовались путем долгой обкатки марксистских положений в популяризаторской, догматически ориентированной литературе, за совершенствование теории: разработку типологии этапов и серии этапов, то есть путей развития. Лишь тогда формационная теория — и именно она — станет прочной основой для понимания всемирной истории.
А пока что, если политолог или экономист захочет «учесть» историческую традицию в своих исследованиях современности, то им будет подано довольно пресное блюдо: данная страна прошла этапы рабовладения, феодализма и этап колониального или полуколониального ограбления, когда в ней начали развиваться капиталистические отношения. Поэтому работы Л. С. Васильева и мои, так же как и наши нынешние выступления, направлены на то, чтобы более пространно (может быть, даже — в полемических целях — рельефнее) связать сегодняшние реальности изучаемых нами стран с цивилизацнонными особенностями этих стран на протяжении их истории.
Л. Васильев: Минутку, Леонид Борисович. Раз уж Вы затронули формационные проблемы, то прежде чем переходить к характеристике индийской и китайской цивилизаций, я тоже хочу высказать свое мнение о природе и исто-
66
рической эволюции восточных обществ. В оценке традиционного Востока у нас с Вами немало общего. Оба мы равно придаем очень большое значение цивилизационному фундаменту Востока — будь то Индия, Китай, мир ислама или Африка. Оба весьма отрицательно относимся к попыткам чуть ли не силой втиснуть восточные общества в те же формации, что были вычленены на материале европейской истории. Однако есть у нас и расхождения, причем существенные. Если для Вас едва ли не главное — все-таки найти какую-то общую докапиталистическую формационную основу, в рамках которой можно было бы непротиворечиво поместить и Европу, и неевропейские страны’, то моя позиция в этом кардинальной важности пункте совершенно иная: европейский и неевропейский миры — это два разных пути развития, две различные социально-экономические и политические структуры.
Не вдаваясь в подробности и отсылая интересующихся к опубликованным работам (с тем чтобы отвести возможные упреки в схематизме и упрощении)2, изложу в тезисной форме лишь самое основное.
Пятичленная схема формаций, разработанная на материале европейской истории, явно непригодна для понимания и объяснения характера восточных обществ. К. Маркс, отчетливо видевший разницу между Западом и Востоком, еще свыше ста лет тому назад попытался объяснить структурную основу этих различий. Как известно, он выдвинул идею особого «азиатского» способа производства, незнакомого ни с развитой частной собственностью, ни с оформившимися классами и классовыми антагонизмами. Альтернативой этому здесь было всесильное государство во главе с восточным деспотом, существующее за счет ренты-налога, взимаемого с социальных корпораций (общин), в рамках которых объединена нерасчлененная и нерасчленимая масса подданных, производителей. Отношения между верхами (аппаратом власти) и низами здесь основаны на принципе господства и подчинения в самой жесткой форме («поголовное рабство»).
Опираясь на данные современной науки, можно во многом дополнить и уточнить параметры структуры, гениально сконструированной Марксом на весьма скудном фактическом материале, которым располагало востоковедение в пер-
1 См. Л. Б. Алаев. Формационные черты феодализма и Восток («Народы Азии и
Африки», № 3, 1937).
2 См. Л. С. Васильев. Феномен вла
сти-собственности («Типы общественных от
ношений на Востоке в средние века». М.,
1982); его же. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983, гл. 1; его
ж е. Курс лекций по древнему Востоку,
вып. 1 и2. М, 1984, 1985.
вой половине прошлого века. Традиционные неевропейские общества — как древние, так и современные, отсталые и достаточно развитые — действительно кардинально отличны от европейских прежде всего тем, что их структура не основана на ведущей роли частной собственности. Ее место занимает власть-собственность государства с традиционным правом причастных к власти существовать за счет избыточного продукта коллектива. И хотя в ходе процесса приватизации в более развитых неевропейских странах появлялась частная собственность, возникали товарно-денежные отношения и связанные с ними классы и классовые антагонизмы,— все это играло здесь второстепенную роль и строго контролировалось не заинтересованными в развитии частного сектора властями. Функции же господствующего класса выполнял аппарат власти («государство— класс» по М. А. Пешкову), по отношению к которому все остальное население (богатые и бедные, эксплуататоры и эксплуатируемые) выступали как социально аморфная масса подданных, выплачивавших в казну ренту-налог и исполнявших положенные повинности.
В. Хорос: Стало быть, получается совсем по Р. Киплингу: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись?
Л. Васильев: Не совсем так. Не только потому, что сегодня, в эпоху растущей универсализации мировой истории, Запад и Восток вынуждены приспосабливаться, «притираться» друг к другу, но и потому, что до определенного периода (примерно VIII — VII вв. до н. э.) весь мир развивался как бы по единой модели. А затем в средиземноморском регионе, да и то не везде, произошел перелом, или,— если употребить более близкий мне термин,— социальная мутация. В уникальных условиях Средиземноморья возникло новообразование— древнегреческая (европейская) структура. Восходящие к финикийскому опыту развитые торговые связи и активное мореплавание рано привели к широкому распространению товарно-денежных отношений, имущественному (не связанному с должностью и местом на иерархической социальной лестнице) неравенству, что повлекло за собой разложение прежде нерасчлененной общины и возникновение на ее основе античного полиса.
На передний план вышло ориентированное на рынок частное товарное производство. Частнособственнические отношения стали ведущими и структурообразующими, а община — коллективом равноправных, но имущественно разнящихся граждан, по отношению к которым чужеземцы выступали в качестве неполноправных и рабов. На базе общинного самоуправления сложилась политическая организация республиканского типа. Участие в управлении стало правом и обязанностью каждого гражданина, причем ни материальных выгод, ни ощути-
67
мых привилегий это не давало 3. Возникло так называемое «гражданское общество» со всеми характерными для него институтами, призванными содействовать развитию частнособственнических отношений (демократия, личные права и свободы, уважение достоинства гражданина и самоуважение личности, а также условия для развития внутренних потенций, индивидуальной энергии, инициативы, предприимчивости, включая формально-правовые гарантии).
Ничего подобного в неевропейских обществах и даже во многих европейских, как, например, в раннефеодальных германском и славянском, не наблюдалось. Перед нами две качественно различные структуры. В одной из них государство было основным и определяющим элементом производственных отношений и в силу этого выполняло функции господствующего класса, абсолютно доминируя над подавленным и приниженным им обществом, состоявшим из безликой массы подданных, лишенных гарантированных прав и свобод (речь не идет о нормах обычного права и традиционных принципах жизни), ограниченных в проявлении внутренних потенций и индивидуальной энергии и целиком зависимых от произвола власть имущих («поголовное рабство»). В другой — государство стало слугой господствующего класса, слугой общества, состоявшего из полноправных граждан (в полисах это обычно было большинство населения), имевших гарантированные законом права, свободы и оптимальные условия для развития потенций индивида в избранной им сфере деятельности — разумеется, при существовании эксплуатируемого меньшинства неполноправных и рабов.
Описанные структуры неравноценны, особенно с точки зрения путей и темпов развития. Неудивительно, что античная структура, преодолев связанный с гибелью Рима кризис и сумев при посредстве христианизации, со временем трансформировать пришедшую ей на смену германскую неантичного типа структуру, развивалась намного быстрее, энергичнее и результативнее второй. Именно в позднесредневековой Европе, особенно в период Ренессанса и Реформации, сложились благоприятные условия не только для реабилитации античного наследия, но и для генезиса на данной основе капитализма. В рамках гегелевской триады это может быть представлено в виде классической динамики (тезис, антитезис, синтез), в учении о формациях—в виде трехчленной схемы формаций (античная, феодальная, капиталистическая), легшей в основу пятичленной. Но в любом случае это не имеет отношения к не-
3 Следует отметить, что и демократические полисы типа Афин (не говоря уже о таких, как Спарта) были знакомы и с олигархией, и с тиранией. Но все же ведущей тенденцией было развитие по демократической модели.
античности, неевропейским структурам, не знавшим подобных коллизий, незнакомым со сменой формаций и не имевшим внутренних потенций для вызревания в них капитализма.
В. Хорос : Давайте будем считать, что методологическая «разминка» проведена — дальнейшее обсуждение действительно назревших проблем формационной теории увело бы нас слишком далеко от темы. Может быть, перейдем к цивилизационным сюжетам?
Л. Алаев: Поэтому я не буду возражать Леониду Сергеевичу, изложившему свою концепцию, хотя мне есть что сказать. Но я думаю, что оба мы можем согласиться, что и китайская, и индийская цивилизации — это разновидности восточного пути развития. И хотя, может быть, дальнейшее сравнение их будет неполным или нестрогим, некоторые параллели или противопоставления напрашиваются сами собой.
Когда говорят о Китае, то большей частью основное звено, за которое надо ухватиться, чтобы вытащить цепь, видят в государстве. Для Индии таким основным звеном является каста.
Касте ужасно не везет в индологических исследованиях. Это уникальное явление, а между тем даже в западной индологии, которая не имеет такого доктринального начала, как наша, каста очень долгое время понималась как интересный, даже забавный религиозный институт. Поскольку в религии она играет роль второстепенную, ею не занимались и религиоведы. И только в последние десятилетия, когда возникла «сельская социология», вдруг стало ясно, что надо прежде всего заниматься кастой. На Западе и в Индии за последние десятилетия накоплен большой материал, позволяющий изучать этот институт в масштабах всей Индии, во многих его связях и проявлениях. С некоторыми подходами зарубежных социологов трудно согласиться, особенно когда они затрагивают вопросы эволюции касты. Но в целом их вклад в раскрытие тайн индийского социума трудно переоценить.
Наша наука, как и во многих других областях, предпочитала идти по наезженным путям. Нельзя сказать, что советские индологи совсем не обращали внимания на социальную значимость касты4, однако изучение ее как социального института так и не было развернуто.
Между тем из касты можно вывести основные черты индийской цивилизации, понять ее в синтезе, как систему. Каста дала специфическую общину, обеспечила сохранение языческой религии индуизма, определила институциональную слабость государства, закрепила такие черты духовного склада, как неисторичность мышления, антиэгалитаризм, принципиаль-
4 См. «Касты в Индии». М., 1965; А. А. Куценков. Эволюция индийской касты, М, 1984.
68
но искаженное восприятие собственного общества (стремление видеть и изучать идеальную схему, а не реальность).
О связи касты и сельской общины писалось много5. Поэтому я не буду подробно останавливаться на данном вопросе. Хочу только подчеркнуть, что тот институт, который принято называть «индийской общиной», возник, по моим представлениям, в V—II вв. до н. э. и не имеет никакого отношения к первобытнообщинному эгалитаризму, демократизму. Индийская община социально гетерогенна — многокастова и многоклассова.
Одна из загадок индийской цивилизации — сохранение эволюционирующей, но все же первобытной по происхождению, языческой религии. Религии, не относящейся к рангу мировых, так как она обращена не к людям вообще, а только к индусам, то есть только к собственным последователям. Между тем в Индии возникла одна из трех мировых религий — буддизм, и много веков политически господствовали представители двух других — ислама и христианства. Каждая из этих религий имела в Индии временные успехи, но каждая оказалась неприемлемой для большинства именно своим эгалитаризмом. Буддизм потерпел полное поражение, несмотря на то, что овладел воображением многих народов к востоку от Индии. Ислам получил очень ограниченное распространение, был изолирован сначала культурно, а потом, с образованием Пакистана, и политически. Христианство вообще не имело успеха, за исключением районов племен, не охваченных индусской цивилизацией.
Связь касты со спецификой индийских государств на протяжении истории также лежит на поверхности. Раздробленность общества, в том числе кастовая, привела к тому, что Индия всегда была раздроблена политически. Если можно говорить о Китайской империи, существовавшей «всегда», за исключением сравнительно кратких междинастических периодов, то Индия «всегда» состояла из десятков, а то и сотен государств. Самоуправление каст (и сельских общин, что тоже было вариантом кастового самоуправления) делало ненужным разветвленный административный аппарат и издание законов, указов и т. п.
Поэтому историк, изучающий Индию, находится в очень тяжелом положении— в его распоряжении нет текстов указов государей или административной документации. Впрочем, отсутствие тех или иных видов исторических источников — тоже очень важное свидетельство. Социальный порядок поддерживался сам собой. И поддерживался очень эффективно, гораздо эффективнее, чем в Китае, ибо в истории Индии почти не было массовых восстаний и ни одной крестьян-
5 См. работы Л. Б. Алаева, а также М. К- Кудрявцев. Община и каста в Хиндустане. М., 1971.
ской войны. Попытки создания регулярного военно-административного аппарата, переписи землевладельцев, регулирования налогообложения и т. д. относятся уже к XVI — XVII вв., к периоду Моголов.
В. Хорос: Выходит, что для древнего или средневекового индуса как бы ничего не происходило, ничего не менялось?
Л. Алаев: Примерно так. Неисторичность подхода индусов к реальности в свое время поразила историков: они искали исторические хроники и не находили их. С приходом мусульман в XIII в. появляются хроники на персидском языке, жанр которых был заимствован со Среднего Востока. История же до XIII в. оставалась «темными веками», пока не стало развиваться изучение надписей на камне и медных табличках. Позднее тезис о неисторичности мышления индусов показался обидным как самим индусам, так и прогрессивной общественности других стран. Его стали опровергать, отыскивая отдельные сочинения исторического характера или ссылаясь на упоминаемые в источниках утерянные произведения. Вообще в востоковедении есть много тезисов, которые считаются одиозными, потому что «некрасиво» звучат. Но наука все же должна стремиться к тому, чтобы видеть вещи такими, каковы они есть.
Неприятие представления о движении времени (за исключением представления о постоянном «ухудшении») связано с концепцией неизменности кастового деления, перерождения, переселения душ, с идеей воздаяния в будущих жизнях. Если человек может возродиться в иной касте, то он должен иметь гарантию, что он родится в том же времени.
Есть и еще одна, чисто практическая сторона невнимания индийцев к истории. Кастовая система может существовать, только если в ней будут идти определенные движения, но эти движения не должны фиксироваться сознанием. Социальный статус каст может меняться — ученые это видят. Но при помощи забвения прошлого и фабрикации ложных генеалогий на уровне массового сознания все остается неизменным.
Антиэгалитаризм, или иерархичность сознания, проявлялась и проявляется в том, что индус невольно ранжирует не только людей, но и все окружающие предметы, явления природы, цвета, музыкальные тона и т. п. Если иногда говорят, что в Европе на определенном этапе возник «хомо экономикус», то индиец — это «хомо иерархикус» (так называется одна из книг французского ученого Луи Дюмона о кастовой системе).
Наконец, кастовое сознание включает в себя принципиальное предпочтение должного реальности. Реальные отношения, если они противоречат должному, не фиксируются сознанием. Правила неизменности статуса, эндогамии, ритуального очищения не действуют без «исключений». Последние тем не менее также
69
являются встроенным элементом системы.
В. Хорос: Это характерно не только для индийской цивилизации.
Л. Алаев: Смысл восточных социальных систем заключается в обеспечении стабильности. В Китае способом обеспечения устойчивости общества была ме ритократия *, значительная вертикальная социальная мобильность. В Индии же механизм стабильности был принципиально иным — она должна была обеспечиваться неподвижностью социального статуса каждого члена общества. Между тем полностью неподвижные системы непрочны и скорее рано, чем поздно рушатся. Кастовая же система действительно обеспечивала стабильность. Уже из этого ясно, что необходимый минимум мобильности в системе должен был существовать. И действительно, касты поднимались и опускались, появлялись и исчезали, но все это не отражалось сознанием, то есть как бы не происходило.
Особенно важно для индуса подходить от должного, а не от реалий к вопросу о ритуальном осквернении. Теоретически нельзя близко общаться с низкокастовыми. Но кастовое сознание молчаливо мирится с рядом ситуаций, когда люди тесно общаются. Эти ситуации как бы не существуют. Поэтому в автобусе, например, люди могут находиться близко друг от друга, даже толкать друг друга, но по выходе из него никому не приходит в голову производить обряд очищения. То же относится к столовой, фабрике, парламенту и т. д.
Как известно, брак заключается лишь внутри касты. Эндогамия — одна из основных черт касты. Но половые связи ею практически не ограничиваются. Даже брак на самом деле может выходить за пределы касты, и на это другие ее члены в определенных ситуациях могут закрыть глаза. Действует «принцип необходимости» — если этого нельзя, но очень надо, то можно. То, что написано в книгах, нужно знать и повторять, а поступать можно по стремлениям. Особенно важно понимать это непростое отношение между словами и реальностью, характерное для индийской культуры, сегодня, когда в прессе, на митингах ведутся разговоры о прогрессе, демократии, борьбе с реакцией. А на самом деле во многих случаях за этими разговорами стоит беспринципная борьба за власть в союзе с любыми партиями и силами.
Специфика здесь заключается в том, что лозунгам не верят ни те, кто провозглашает их, ни те, кто воспринимает или скандирует. Это просто правила игры. В данном случае речь идет не о политической системе Индии в целом, про-
* Меритократия (лат. meritus — заслуженный, достойный; гр. kratos — власть) — социологический термин, обозначающий систему правления, при которой у кормила власти находятся наиболее достойные, заслуженные, уважаемые граждане.— Ред.
гресcивность которой вне сомнения, но о тех ее чертах, которые унаследованы от прошлого или базируются на сохранившихся традиционных социальных отношениях.
В. Хорос: Но разве этот конфликт между сущим и должным никогда не выходил наружу?
Л. Алаев: Разумеется, выходил. Интересны в этой связи следы интеллектуальной борьбы, которая велась в древности и средневековье. Возникли две науки, два направления мысли: дхармашастра — наука о благочестии, правильном поведении, и артхашастра — наука о пользе, выгоде. Вторая, возникшая, по мнению некоторых исследователей, даже раньше, чем первая, была ближе к реальной жизни уже хотя бы тем, что ставила вполне материальные цели. Но в ходе эволюции общества дхармашастра разрабатывалась все полнее, возникали все новые трактаты — Ману, Яджнявалкья, Брихаспати, Нарада, Гаутама и т. п.,— они усердно комментировались, а артхашастра забывалась и совершенно перестала интересовать ученых и правителей. Из многих трактатов этого направления до нас дошел лишь один, «Артхашастра» Каутильи, случайно открытый в1905 г.
Что же такое дхармашастра, что занимало умы составителей трактатов и комментаторов? Как следовало бы организовать государство, судопроизводство, ритуал, семейную жизнь по правилам благочестия. Все эти трактаты составлены в оптативе — желательном наклонении — и не имели прямой связи с реальностью. Проходили века, в Индии менялись династии, мусульмане завоевали две трети страны, а комментаторы до XIX в. скрупулезно переписывали и толковали тексты, и в их комментариях никак не отражались факты реальной жизни. И тем не менее это было необходимо — для поддержания как культурной традиции, так и социальной стабильности.
В. Хорос: Итак, ядром индийской цивилизации является каста как социальный институт, наиболее соответствующий местной мифологии и религии. Каким же образом можно «выстроить» китайскую цивилизацию, Леонид Сергеевич?
Л. Васильев: В отличие от Индии, где мифология и религия на заре ее истории играли едва ли не первостепенную роль в определении конкретного характера тех идей и институтов, которые задали параметры складывавшейся там цивилизации (варны, касты, специфическая община), древнекитайское общество не было ни чересчур религиозным, ни склонным к мифологии. Напротив, оно предпочитало смотреть на мир весьма трезво, практично, реалистично. Уже в начале эпохи Чжоу (рубеж II—I тысячелетия до н. э.) была выработана доктрина «мандата Неба», согласно которой считалось, что великое Небо дает правителю Поднебесной его высокий пост
70
с тем, чтобы тот неустанно заботился о благе своих подданных, процветании государства и благосостоянии общества, и что небрежение в этом деле влечет за собой гнев Неба и, как следствие — смену владельца мандата.
Формула «мандата Неба» была переосмыслена и развита великим древнекитайским философом Конфуцием (551 — 479 гг. до н. э.). В этой доктрине, под знаком которой жил и развивался Китай на протяжении тысячелетий, на передний план были выдвинуты социальная этика и определявшаяся ею политическая культура. Обостренное чувство долга, высокие моральные качества, желание всего себя отдать на благо других, постоянное стремление к постижению истины, любовь к знанию, верность и благородство — вот тот идеал, на который должны были ориентироваться люди, желавшие управлять другими. Именно такого рода идеал стал со временем эталоном для чиновников китайской империи, взявших в свои руки управление Поднебесной и доказывавших свое право на участие в управлении сдачей конкурсных экзаменов, в основе которых лежало хорошее знание конфуцианства.
Разумеется, реальная жизнь в традиционном Китае отнюдь не совпадала с идеалами, но все же именно идеал формировал основные параметры общества и государства. Официально санкционированное стремление к поиску и реализации социальной гармонии в определенной степени обуздывало произвол власть имущих, скованных к тому же жестким регламентом в образе жизни и повседневном поведении (китайские церемонии) и вечно находившихся под дамокловым мечом переменчивого и зависевшего от их морального стандарта небесного мандата (задним числом крушение той или иной династии всегда объяснялось отступлением от стандарта, что обычно было близким к истине и потому всеми воспринималось как нечто само собой разумеющееся).
Конфуцианский этический стандарт вошел в плоть и кровь традиционного Китая. Младшие должны были покорно следовать руководству старших — отсюда столь высокая степень патернализма, роль культа предков и стремление к строгому соблюдению иерархического порядка, чинопочитанию. Все в жизни каждого, включая его одежду, украшения, атрибуты, манеры поведения, лексику, формы выражения мысли, всегда строго соответствовали положению и рангу, возрасту и ситуации. Достигший совершенства церемониальный ритуал, особенно в верхах общества, рождал неслыханную степень несоответствия подлинным реалиям: умный постоянно обязан был именовать себя ничтожным и глупым в беседе с ничтожным и глупым, но старшим по возрасту и рангу, и т. п. Но это кажущееся лицемерие с лихвой компенсировалось стабильностью создававшегося за его счет прочного социального порядка. К тому же оно не только не закрывало путь наверх, но, напротив, способствовало продвижению умных и талантливых: овладев нехитрыми правилами игры, любой из них мог добиться успеха. Иными словами, традиционный Китай был достаточно открытым для реализации потенций личности, но при одном непременном условии: эта личность целиком идентифицирует себя с системой и, более того, обращает все свои способности во благо существующей социальной системы.
В отличие от Индии с ее строгими варно-кастовыми ограничениями Китай был своеобразным царством меритократии: способные, сдав экзамены, выбивались в верхи общества, а вожди крестьянских восстаний нередко становились императорами. И это никого не смущало, ибо было на благо Поднебесной, в традициях конфуцианства и в соответствии с его генеральной идеей о «небесном мандате». Эластичность системы и ее стабильность гарантировались веками отработанными принципами бюрократической администрации. Хотя именно бюрократы из числа успешно сдавших тройные конкурсные экзамены конфуцианцев управляли империей, всевластие их ограничивалось благодаря обязательной сменяемости, строгому цензорско-прокурорскому надзору и необходимости соответствовать стандарту, любое нарушение которого вызывало общественное осуждение (а к общественному мнению в этом смысле в Китае всегда прислушивались). Конечно, случались и накладки. Но именно они и вели к кризисам, результатом их были гибель династии и воцарение новой, главной заботой которой оказывалось восстановление поруганной нормы, нарушенного стандарта,— только этим она могла обеспечить свое длительное и тем более легитимное существование.
В отличие от индийца китаец всегда был социально активен и относился к государству в лице аппарата власти во главе с императором как к чему-то естественному, привычному, изначально данному. Еще Конфуций учил, что государство — это большая семья. Если в Индии мир для среднего человека обычно ограничивался его кастой и общиной, то в Китае, при огромной значимости семьи, клана или той же общины, вершиной социальных ценностей было все же государство. Именно сильное государство гарантировало порядок и обеспечивало нерушимость нормы, боролось с любыми проявлениями безответственности и безнаказанности, ограничивало частнособственническую стихию и контролировало рынок, а также выступало в качестве гаранта существования в тяжелые годы неурожаев и стихийных бедствий.
В Индии, где роль государства, как и его сила и значимость для структуры, была намного слабее, альтернативу ему составляли общинно-кастовая си-
71
стема и огромное развитие патронажно-клиентельных связей. В Китае этого типа связи, особенно в форме традиционного конфуцианского патернализма, тоже играли весьма существенную роль. Более того, они особенно оживали и выходили на передний план в годы кризисов и вообще там и тогда, где и когда не было сильного государства (например, среди китайских эмигрантов-хуацяо в Юго-Восточной Азии и других регионах). Но в рамках существовавшего сильного государства — что было для китайской империи нормой — такие связи все же отходили на второй план и, более того, были поставлены на службу все тому же государству (чиновники обычно предпочитали иметь дело с руководителями общин или иных социальных корпораций, отвечавшими за соблюдение порядка и выплату налогов, отправление повинностей их подопечными).
Китай, как, впрочем, и Индия,— одна из великих модификаций Востока. Собственно говоря, только три цивилизации такого типа (китайско-конфуцианская, индо-буддийская и арабо-исламская) практически исчерпывают основные варианты развития на Востоке, а всего в неевропейском мире к ним можно добавить еще два — африканский и латиноамериканский, варианты несколько специфические и урезанные в смысле принадлежности их к той или иной из великих цивилизаций. (Африканцы, развивавшиеся в силу ряда условий в крайне замедленном темпе, собственной развитой религиозной системы не выработали, а латиноамериканцам, более продвинувшимся в этом плане, была навязана после Колумба христианская религия, что заметно сказалось на последующей эволюции континента.) Разумеется, все пять цивилизационных вариантов вполне вписываются в тот общий путь развития неевропейских обществ, о котором я говорил выше. Но именно цивилизационные начала во многом обусловливают специфику каждого из неевропейских регионов.
Д. Фурман: Я бы хотел несколько дополнить сделанное Леонидом Борисовичем Алаевым и Леонидом Сергеевичем Васильевым сравнение традиционных цивилизаций Индии и Китая. Прежде всего, мне думается, надо указать на один общий для этих стран духовный фактор — то, что в центре религиозно-философской мысли обеих цивилизаций нет идеи единого Бога, творца мира и человека. И конфуцианское Небо и индуистский абсолют — Брахман суть безличностные начала («оно», а не «он» и «ты»). И с этим неразрывно логически связан целый комплекс других идей. Нет личного Бога — нет сотворения мира, и нет его конца. Мир вечен, совечен Небу и Брахману, он не идет «вперед», от начала к концу, а движется по кругу, цикличен. Нет личного Бога — нет и откровения, истина вечно пребывает в мире. (Веды вечны и восстанавливаются в том же виде в начале нового мирового
цикла; Конфуций не открыл ничего нового, он лишь зафиксировал то, что было, есть и будет.) Нет личного Бога — нет и обостренного чувства ценности, неповторимости собственной личности. Конфуцианство не интересуется загробной жизнью. Индуизм развивает идею переселения «душ» в соответствии с вечным и «механически» действующим законом кармы — воздания за добродетельность или греховность предшествовавшей жизни. (Слово «душа» здесь может быть лишь в кавычках, ибо личное начало, лишенное единства самосознания и памяти,— нечто иное, чем христианская «душа», причем сохранение этого личного начала — бремя, а его утрата — избавление.)
Создав картины вечного мира, где все движется по неизменным законам и ничего нового не возникает, а есть лишь движение по кругу, и индийцы, и китайцы создали предельно устойчивые традиционные цивилизации, где действительно все «движется по кругу». Исключив идею поступательного движения из картины мира, они исключили его и из своих социумов. Нельзя, разумеется, сказать, что стабильность этих цивилизаций — от картины стабильного мира, но, очевидно, нельзя утверждать и обратного. Религиозные идеи и социум, в котором они существуют, неотделимы друг от друга как «душа» от «тела», между ними — жесткая функциональная связь.
Но при определенном сходстве религиозно-философских идей в Индии и Китае между ними есть и очень большие различия. Можно так, наверное, определить отличие Неба от Брахмана: Небо — «над» людьми и миром, Брахман — «за» миром и людьми. Конфуцианский мир — «плоский», индуистский — «глубокий». Небо регулирует социальную жизнь и поведение людей — за неправильным поведением индивидов и социума «механически» следуют беды. Закон кармы также «механически» определяет будущее рождение в соответствии с поведением, выполнением дхармы, моральных и ритуальных норм поведения. Но хорошее будущее рождение — не высшая ценность, равно как этот мир — не высшая реальность. Высшая реальность — Брахман, и высшая ценность — осознать свое тождество, слиться с ним и выйти навсегда из круга смертей и рождений. С Небом нельзя «слиться», в нем нельзя «раствориться», надо лишь подчиняться его законам. Поэтому конфуцианство предполагает «экстравертивность», ориентацию на людей и социум.
Не случайно в Китае в отличие от Индии тщательно фиксируется история. Не потому, что в ней прослеживается поступательное движение, но потому, что в ней действует вечный морально-космический закон. Наоборот, индуизм предполагает «интровертивность», здесь высший идеал — не человек, безукоризненно выполняющий вечные правила соци-
72
альной жизни, а аскет, вышедший из социума, переставший интересоваться им и вообще всем несущностным, даже иллюзорным миром. В Китае история — предмет высшего интереса. В Индии она не важна и не интересна. Не только государства, но и миры постоянно возникают и исчезают в бесконечности времени; мудрец знает, что все это неважно, это иллюзия, а единственная реальность — Брахман.
С этим связано еще одно важнейшее различие. Законы Неба, законы правильного поведения в социуме, естественно, открыты для всех. Конфуцианство открыто и обращено ко всем, ничего тайного, эзотерического в нем быть не может. Напротив, индуистский аскетический идеал по сути своей элитарен. Уход из мира и в конечном счете выход из круга рождений и смертей не могут быть требованиями, обращенными к массам. Это — для немногих, а удел большинства — выполнять дхарму и надеяться на хорошее следующее рождение. Поэтому индуизм предполагает эзотеричность, не просто возможность все большего усвоения одной истины, как в конфуцианстве, но как бы иерархию разных истин. Низшие истины говорят о дхарме, обрядах, жертвоприношениях богам и т. д., но высшая говорит о том, что все это — не конечная ценность или даже иллюзия.
И здесь опять мы видим неразрывную функциональную связь религиозно-философской картины мира и организации общества. «Открытость» конфуцианского учения о правильном поведении и организации общества предполагает высокую социальную мобильность в идеологически-бюрократической иерархии, организацию общества, где иерархия власти есть иерархия знания единой конфуцианской истины. Наоборот, эзотеричность индуизма, наличие в нем иерархии истин и его высший идеал — выход из мира и круга рождений, неразрывно связаны с иерархичностью индийского вар-но-кастового общества, где на вершине пирамиды — брахманы, теоретически вообще не занимающиеся мирскими делами, не управляющие обществом, но обладающие неизмеримо более высоким статусом, чем непосредственные держатели власти и богатства.
А. Зубов: Дмитрий Ефимович Фурман справедливо напомнил о том, что в рассматриваемых цивилизациях необходимо видеть не только различия, но и черты сходства.
Индологи и китаисты любят подчеркивать различия между изучаемыми ими обществами, указывая на преимущественную роль касты и органической иерархии в Индии и соответственно государства и меритократии в Китае. Различия между двумя азиатскими цивилизациями действительно велики, но если справедливо предположение, что специфика каждой из них все же «перевешивается» определенной общностью при сравнении с цивилизацией европейской, то тогда можно обнаружить, что индийская каста и китайское государство представляют собой некоторое типологическое единство — именно если взглянуть на них через призму религиозного сознания, сакрального переживания бытия.
Я все же считаю в отличие от Леонида Борисовича Алаева, что каста — продукт религиозной культуры. На протяжении более чем трех тысячелетий кастовая система поддерживалась в обществе всеобщей убежденностью в ее божественной первопричине. Создаваясь наравне с основными частями космоса — небом, воздушным пространством, светилами, странами света, касты оказываются не только богоданными, но и превращаются в важнейшие конструктивные компоненты мироздания. Когда современные западные индологи утверждают, что в «религии каста играет роль второстепенную», то это, скорее, характеристика их сознания, нежели индуистского. Для того типа сознания, которое пережило Реформацию, философствование о Боге оторвано от ритуала, а потому и от потребности в сакральной организации общества. В Индии можно найти сколько угодно религиозной философии, интересной для исследователя, чье мировоззрение сформировалось под влиянием протестантизма, но в этой возвышенной спекуляции кастовая система представляется ему случайным, искусственным привеском. Однако самому индийцу она таковой никогда не казалась. Те же европейцы, которые социализировались в лоне более ритуализированной католической традиции, например Луи Дюмон, хорошо сознают органичность и существенность кастовой системы для индуизма.
Как же соотносятся принципы кастовости и меритократии? Китайцы верили, что энергия Дао — запредельное основание бытия, наполняет людей и что человек может и должен раскрыть дарованные ему Небом способности, но раскрыть то, что не дано ему, он, разумеется, не может. Человек не властен в выборе путей, но от него зависит, пройдет ли он и как пройдет предложенный ему свыше путь. То тут, то там рождаются люди, которых Небо почему-то одарило выдающимися способностями, иногда появляются гении, и правитель для благополучия государства должен максимально полно выявлять и активно привлекать к себе таких людей. Пережившая тысячелетия система государственных экзаменов была предназначена именно для этой цели — разыскивать одаренных Небом. Во II в. ученый-конфуцианец Чжунчан Тун рассуждал: «На десять миллионов дворов всегда найдется десять миллионов здоровых мужчин, а среди них миллион человек, способных выполнять обязанности мелких служащих; из этого миллиона всегда можно отобрать сто тысяч компетентных чиновников, а среди последних — десять тысяч
73
мужей, годных для высших государственных должностей» 6.
В китайских текстах конфуцианского направления постоянно говорится о достоинствах благородного мужа (цзюнь цзы), его высоких моральных качествах, нравственном величии, способностях познавать и действовать, об основанности всех его деяний на глубоком переживании музыки и ритуала. Нам, читающим эти тексты, не следует, однако, забывать, что данные качества не просто выводятся из естественного, «случайного совпадения» многих достоинств в одном лице, как, возможно, истолковывается гениальность в светской культуре Запада, но рассматриваются как дар Неба, энергия Дао — дэ.
Следует отметить, что существует и иная точка зрения — мнение о нерелигиозном характере китайского общества второй половины I тысячелетия до н. э., времени, когда оформлялся конфуцианский и даосский канон, и о том, что сам Учитель «не говорил о духах» («Лунь юй») и потому был не религиозен. Между тем Небо (тянь) Конфуцием и его учеником и последователем Мэн-цзы переживалось, судя по всему, как личная божественная сущность, обладающая волей, любовью, совершенным знанием сути вещей и людей (см., например, «Лунь юй», «Мэн-цзы»). Поклонение духам Конфуций воспринимал как составную часть ритуала, правильного для цзюнь цзы поведения, и в этом смысле утверждал, что «молится постоянно» («Лунь юй»). Небо же для него оставалось высшим личностным началом бытия. Дальнейшая эволюция конфуцианства в сторону большей сакрализации учения (или, возможно, большего выявления его религиозных интенций) протекала довольно быстро. Уже во Ив. до н. э. видный идеолог ханьского Китая Дун Чжун-шу в специальном трактате «О Небе» («Тянь лунь») однозначно именовал Небо личным божественным началом. Примерно в то же время, во II в. до н. э. при дворе ханьских императоров впервые возникает система государственных экзаменов 7.
Неудивительно, что в древнем Китае также встречается, хотя и в формах, весьма отличных от индийских, сакральная социальная иерархия. Различия между высшими сановниками и простолюдинами объясняются не столько близостью первых ко двору, сколько «наполненностью дэ». Цзюнь цзы может и не занимать никаких постов, жить частной жиз-
6 Ц и т. по: В. В. Малявин. Человек
в культуре раннеимператорского Китая
(Проблема человека в традиционных китай
ских учениях). М., 1983, стр. 169—170.
7 См. В. I.Schwartz. The World of Thought in Ancient China. Саmbridge
(Маss.), 1985; Н. С. Тillman. Соnsciousness оf Тien in Сhu Нsi`s Тhоught («Jornal of Asiatic Studies», № 1, Саmbridge (Маss.),
1987, рр. 31—33).
нью или подвизаться в аскезе. Однако пребывание достойного мужа вне государственной службы — «в деревне», по словам Конфуция, «наносит ущерб морали», поскольку совершенный правитель не оставляет достойных не у дел, а плохой властелин не печется о сыскании щедро одаренных Небом. И если древнеиндийские руководства для правителей предостерегают их от возвышения людей из низших каст, то китайские политические мыслители прошлого точно так же указывают на гибельность для трона и страны назначений, произведенных без учета тех даров, которые получили кандидаты от Неба. Поэтому, по Мэн-цзы, «поступление на службу ненадлежащим путем есть действие однородное с воровским свиданием молодых людей».
Индийская каста облегчает сакральную стратификацию, но когда, как в Китае, подобного объективного критерия нет, то он должен всякий раз воспроизводиться на индивидуальной основе при испытании достоинств претендентов на государственные должности, отыскании обладателей «харизматических дарований». В результате такого отбора создается иерархическая пирамида, хотя внешне и отличная от кастовой системы, но, в сущности, ей подобная. Если рассматривать социальные градации глазами носителя традиционного религиозного сознания (для которого видимая реальность общественного расслоения представляет собой не самодостаточную данность, но лишь проявление духовного мира, строящего эту реальность по своим абсолютным законам), то можно заметить типологическое сходство между идеями возрождения индуса в лоне той или иной варны и неравного наполнения дэ, выявляемого при экзаменах на бюрократический пост в императорском Китае 8.
Если для иллюстрации обратиться к культуре древнего Переднего Востока, то подобную же неявную теогенную иерархию несложно обнаружить и здесь. Известна евангельская притча о талантах, данных хозяином рабам,— «одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе». Величина дара зависит от «силы» получающего, и его задача не «зарывать талант в землю», но приумножить полученное усердным служением. Задача же правителя — обнаруживать таких, одаренных «сверх меры» божественными талантами людей и привлекать их к себе, расставляя соответственно величине дарования.
Есть, видимо, связь между признанием метампсихоза, переселения душ и
8 Кстати говоря, ханьские императоры Вэнь-ди и У-ди объясняли введение системы экзаменов как раз желанием компенсировать в себе недостаток дэ, потребного для доброго управления страной, привлечением на службу обладателей божественной благодати (дэ) и чистого духа (ци).
74
существованием жесткой социальной системы, открывающей возможность изменения статуса личности только после смерти, в следующем рождении, а рода — только через смену многих поколений, постепенное накапливание свойств высшей статусной группы, улучшение социального генотипа. Религиозные системы, утверждающие (христианство, ислам) или предполагающие (традиционные китайские учения) уникальность земного существования индивида, отличаются признанием неявной проявленности божественного дара, который надо уметь сыскать правителю. В то же время они постулируют, если в качестве примера привести слова Мэн-цзы, что «Яо (легендарный идеальный правитель древнего Китая.— А. 3.) может стать каждый», признавая, что подлинная харизма обретается и вне официальных структур социальной иерархии.
Таким образом, несмотря на очевидные различия в социальном устроении обществ Индии и Китая, причины которых лежат, видимо, в цивилизационной специфике каждого из сравниваемых обществ, и индийская священная иерархия и китайская чиновная меритократия восходят к одному и тому же принципу религиозного сознания: людям Брахман и Небо посылают различные дарования, и «надлежащее» расположение людей в соответствии с их дарованиями — залог гармоничной жизни общества. И китайская экзаменационная система и «извечный закон» четырех варн индуизма служат своеобразными инструментами, необходимыми для решения этой важнейшей государственной (а при обычном уподоблении государства — вселенной и космической) задачи.
В заключение, может быть, следует сделать оговорку. В древнеиндийском религиозно-правовом трактате — «Законах Ману» много статей посвящено брахманам, совершающим недостойные поступки или просто исполняющим закон низких варн, который проще и дает больше внешней свободы. Китайские исторические и философские повествования пестрят упоминаниями о непотребных князьях, министрах, царедворцах. Такие факты, сколь бы многочисленны и осуждаемы они сами по себе ни были, не опровергали в глазах носителя религиозного сознания самого принципа сакральной иерархии. Даже наиболее апологетически настроенные авторы теоретических трактатов не могли не подчеркивать различие иерархии божественной и иерархии земной. Свободная воля человека может извратить и преложить во зло самые высокие дарования: чем выше они, тем больше будет их разрушительная сила. Но задача правителя, если вернуться к схеме Чжунчан Туна, из десяти тысяч мужей, годных благодаря дарам Неба к занятию высших государственных должностей, отобрать таких, чья воля гармонична с волей Неба. Эти-то, последние, и окажутся настоящими, а не потенци-
альными цзюнь цзы, так же как брахманы, стремящиеся безукоризненно выполнять дхарму Брахмана,— подлинными брахманами. Религиозное сознание требует гармоничного сочетания божественного и человеческого начал, и в социальной реализации этого требования индийское и китайское общества в принципе очень сходны.
Л. Васильев: Должен заметить, что точка зрения Андрея Борисовича Зубова на роль религиозного сознания в китайской традиции и некоторые его тезисы о формах проявления этого сознания, в частности о механизме отбора способных и достойных, основаны, на мой взгляд, на недоразумении. Судите сами. Мой коллега утверждает, что система экзаменов в древнем Китае существовала для того, чтобы «разыскивать одаренных Небом» и что будто бы все качества, коими характеризуется в конфуцианских текстах благородный муж,— это чуть ли не врожденный, присущий лишь избранным «дар Неба». Отмеченные этим даром и проходят, по его мнению, через сито экзаменов и оказываются на социальном верху. Это, по моему убеждению, наименее возможная трактовка конфуцианской традиции.
Конечно, и среди специалистов-синологов, изучающих проблемы, о которых идет речь, есть те, кто обращает особое внимание на сакральность Неба — высшую мистико-метафизическую категорию, единственную в этом роде — в до предела секуляризированной этико-политической доктрине конфуцианства. Можно найти цитаты, в которых ее создатель обращается к Небу, что он, впрочем, делал не так уж часто и весьма неопределенно, скорее вежливо-почтительно, нежели молитвенно. Но полагать, что Конфуций и его последователи были столь примитивными фаталистами, по-моему, нет оснований.
Квинтэссенцией конфуцианства и тысячелетней практики применения этой доктрины (в частности в форме экзаменационного отбора социальных верхов, административно-бюрократической элиты империи) была именно установка на самореализацию — в процессе старательных и целенаправленных усилий — тех потенций, которые заложены едва ли не в каждом человеке. Учиться, познавать, совершенствоваться всю жизнь, твердил Конфуций, должен каждый. И хотя китайский мудрец, не будучи доктринером, сознавал, что не все из учащихся одинаково способны, он, во-первых, никогда не говорил о том, что способности — врожденный дар Неба, данный немногим избранным, а во-вторых, считал возможным чуть ли не для каждого посредством труда, стараний, упорства достичь общественных высот (что и отражено в афоризме Мэн-цзы — «каждый может стать Яо», то есть великим мудрецом). Собственно говоря, к этому и сводится национальный характер китайцев (частично и японцев,
75
то есть тех, кто причастен к дальневосточно-конфуцианской традиции). Такому отношению к жизни они в немалой степени обязаны своим трудолюбием, высокой культурой труда, которые во многом обеспечивают их успехи и в наши дни. Можно ли связывать это с мистико-религиозным сознанием, упованием на то, что только те, кто обладает врожденными свойствами, станут избранными, достигнут вершин?
Словом, утверждение о сходстве религиозного сознания у китайцев и индийцев представляется мне несостоятельным. Мистика в Китае всегда была и играла свою роль, особенно в рамках религиозного даосизма. Имела место и чисто религиозная сакральность. На общих принципах мистики и сакрализованной метафизики построено многое в китайской мысли, в частности вся теоретическая основа китайской медицины. Так что поле для спекуляций на эту тему необъятно. Но ведь сегодня мы ведем речь не о мистике и метафизике, не о сакральном в культуре (в Китае — все есть!). Мы ведем речь об ином, для нашей темы самом важном, определяющем лицо цивилизации,— о принципах жизни, формах социальной и государственной организации, о наиболее общих ценностях китайского общества. А сформировались они под влиянием конфуцианства и сформулированы были им. Не «религиозным сознанием», всегда остававшимся на периферии китайской традиции, а, напротив, весьма рациональным, прагматичным, посюсторонним отношением к жизни.
В выступлении Андрея Борисовича тем не менее можно увидеть нечто иное, заслуживающее внимания. Если в Индии закон кармы являлся инструментом религиозного отбора лучших (последние через систему перерождений рано или поздно становятся брахманами, так что брахманы — это лучшие), то в Китае(отработанный социальной практикой механизм экзаменов действовал примерно так же. Разница лишь в том, что в одном случае система отбора основана на религиозном сознании, а в другом — на рационалистическом восприятии мира. Еще раз замечу, что именно в этом, на мой взгляд, кроется существенное отличие в ориентациях индийской и китайской цивилизаций.
В. Хорoс: В ходе обсуждения уже выявилось достаточно спорных вопросов, в том числе при сравнительном анализе индийской и китайской цивилизаций. Что ж, расхождение позиций — вещь нормальная в науке, особенно когда речь идет о столь сложных и недостаточно изученных вопросах. Тем не менее проведенный обмен мнениями, как представляется, позволяет сделать вывод о глубокой внутренней устойчивости обеих цивилизаций, об их своеобразной социально-культурной гомеостатичности, равновесности. Можно говорить как о чертах сходства, так и о различиях между ними, если угодно — о разных основаниях данной устойчивости. Сказалось ли это как-то на процессе модернизации рассматриваемых обществ, соприкосновения с внешним миром, тем более, что характер такого соприкосновения был различным?
(Продолжение следует)



