МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
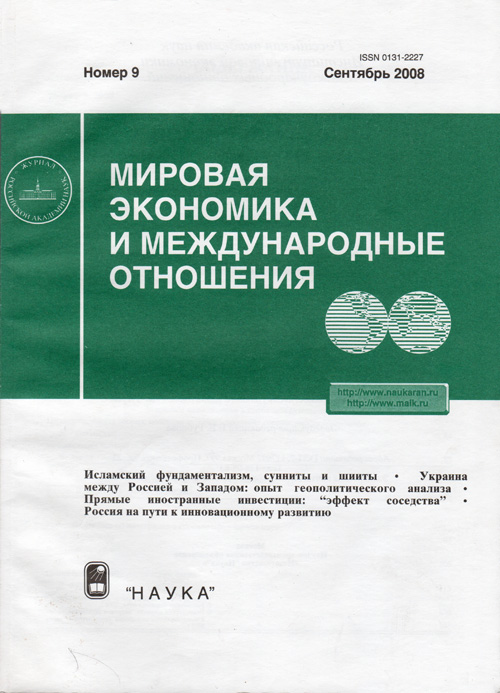
САМАЯ БЛИЗКАЯ К РОССИИ ИЗ СТРАН ЗАПАДА
РЕЦЕНЗИЯ
№9 сентябрь 2008 PDFфайл
Франция в поисках новых путей. Под ред. Ю. И. РУБИНСКОГО. (Российская академия наук, Институт Европы). Москва, “Весь мир”, 2007, 622 с. (“Старый Свет – новые времена”).
Из всех развитых современных стран Запада во всех отношениях (кроме, разве что, географического) России ближе всего Франция. Именно такое ощущение постоянно присутствует при чтении подготовленной Институтом Европы РАН под редакцией Ю.И. Рубинского солидной коллективной монографии.
Связана эта близость, несомненно, с некоторыми общими чертами в очень глубоких основаниях наших культур, сложившихся на рубеже Средневековья и Нового времени. Франция – католическая страна (а католические культуры все же ближе к православным, чем уж очень далекие по своим самым глубинным религиозным основаниям протестантские). И одновременно перед нами – страна, где церковь была значительно больше подчинена государству, чем в других католических державах, и где сформировалась мощная централизованно-абсолютистская монархия, когда король мог с полным правом искренне заявить: “Государство – это я”. Разумеется, сходства наших стран – ограниченные: крепостное право во Франции исчезло еще в Средние века, легализм французского абсолютизма – не тотальный произвол русского самодержавия, а уровни развития той и другой национальных культур на заре Нового времени – несопоставимы. Но некоторые сходства в начальном эволюционном пункте того периода порождают ряд аналогий в формах, ритмике самого развития.
Можно утверждать, что в европейских странах, в которых победил протестантизм, постепенно модернизировавший сознание в самой глубокой – религиозной и в самых повседневных – бытовой и трудовой сферах, и где сохранились средневековые сословно-представительные институты, постепенно наполнявшиеся новым содержанием, процесс общей социомодернизации начался раньше и шел эволюционно, относительно плавно, но быстро, а в странах с абсолютистскими системами и нереформированной религией он начался позже и развивался революционно, но медленно.
Великая Французская революция – первая из революций с антирелигиозной и одновременно квазирелигиозной идеологией (картины разрушенных церквей Робера – это почти картины советского сельского пейзажа, где руины церквей -его органическая часть), стремившейся рационально-догматически перестроить мир на основе примата разума и принципов “свободы, равенства и братства”. Это – революция, породившая безграничный героизм, беспримерные фанатизм, террор, диктатуру, преследования сначала -контрреволюционеров, а затем и революционе-ров-“еретиков”. В этом отношении она – прямая предшественница Великой русской революции, и их сущностное родство ощущалось как нашими революционерами, так и французскими левыми. Типологическое сходство между обеими революциями значительно глубже, чем между каждой из них и революциями/религиозными войнами в Нидерландах и Англии, революцией/борьбой за независимость США и тем более, – с вообще обошедшейся без подобных потрясений историей скандинавских стран или британских доминионов. И французская, и русская революции – это революции, радикально (на прямо противоположные) менявшие идеологические знаки, но именно поэтому сохранявшие централизованный и недемократический характер государственной власти, провозглашавшие свободу и тут же переходившие к тирании. Чем радикальнее менялись знаки, форма, читаем в рецензируемой монографии, тем более “преемственность старого режима … преобладала над переменами” (с. 260). В России все – значительно позже и все – страшнее, чем во Франции: якобинский террор несопоставим по масштабам с большевистским, но советскую власть все же можно представить как закрепившуюся на 70 с гаком лет и, в конце концов, полностью переродившуюся и одряхлевшую диктатуру якобинского типа.
Сходство и в том, что обе революции не только не оказались прыжком в “царство разума, свободы, счастья”, но и не привели к резкому ускорению модернизационных процессов, ликвидации разрыва с более быстро и эволюционно развивающимися странами. Идеологический прогрес-сизм прекрасно камуфлирует глубокий психологический консерватизм. Революционные Ахиллесы совершают головокружительные прыжки, которые, впрочем, оказываются в громадной мере прыжками на месте, и Ахиллесам никак не догнать эволюционных черепах. Отставание Франции от Англии и США и в экономической сфере, и в создании стабильных, динамичных форм демократической политической жизни преодолевается очень медленно. Великую Французскую революцию от очень относительной стабилизации демократических институтов в Ш-й Республике отделяют более 80 лет, но действительно стабильные и динамичные формы демократической гражданско-политической жизни создаются только в ходе эволюции У-й республики. А в России через 90 лет после нашей революции демократические институты не только не стабильны, но, по сути, еще и не начали функционировать.
Ужасы и героизм периодов тяжелейших социальных потрясений порождают и во Франции, и в России глубокий раскол общества. Революции наносят раны, которые не заживают столетия. Формируются политические культуры, для которых характерно “преобладание конфликта над компромиссом” (с. 260), а общественно-политическая жизнь приобретает “характер столкновения … систем духовных ценностей” (с. 264). Раскол на католико-монархическую Францию и “левую” Францию просветителей, революционеров и их идеологических “потомков”, непримиримые друг к другу, имеющие каждая свои святыни, героев и мучеников, сохранялся не только весь XIX век, но продолжался, возрождался в новых формах в XX в. и с трудом изживается только в наше время. Раскол русской культуры, культуры Чернышевского и Леонтьева, большевиков и монархистов-черносотенцев не менее глубок. Резкий идеологический разлом, восприятие политической борьбы как битвы “сынов света с сынами тьмы” делают невозможным нормальный демократический процесс с постоянной ротацией у власти разных политических сил, интегрирующей все общество.
В России демократическая ротация власти, -видимо, вообще пока туманная перспектива далекого будущего. История Франции конца XVIII-XIX столетий – это история “силовых ротаций” -революций и контрреволюций, в которых раздираемые противоречиями демократические режимы оказывались неустойчивыми “переходными” формами между авторитарными режимами разной идеологической направленности. За это время в стране “сменилось 17 основных законов и приравненных к ним документов”, и она “перепробовала восемь типов государственного устройства” (с. 259). Республиканская форма в какой-то мере стабилизировалась в Ш-й Республике после разгрома Парижской коммуны и провала попыток монархического реванша, но ее относительная устойчивость была связана с фактической отстраненностью от власти и от состязательного демократического процесса громадных слоев населения – и мощной левой (анархисты, социалисты, затем коммунисты), и клерикально-монархической, и фашистской правой, затем временно пришедшей к власти с отнюдь не чисто “экзогенным” (не полностью навязанным извне) пронацистским режимом Виши. Фактически такое же отчуждение от нормального политического процесса мощных “внесистемных” левой (прежде всего, коммунистов) и правой (главным образом, голли-стов), при слабости и раздробленности центра, погруженного в стихию парламентских комбинаций и дележа портфелей в неустойчивых, не способных принимать трудные и ответственные решения правительствах, сохранялось и в 1У-й Республике, что, в конце концов, привело ее к гибели. В ослабленной и модифицированной форме специфический французский ритм политической истории XIX в. сохранялся и во второй половине XX в. В1958 г. Франция оказалась не так далеко от фашистского “оасовского” переворота, от которого ее спасло только установление “полуавторитарного” режима “харизматического лидера” – генерала де Голля, а в1968 г. в ней происходит что-то вроде попытки социалистической революции, происходящей в ослабленной и “пародийной” форме. И хотя страна прошла громадный путь в направлении изживания этих идеологических, символических противостояний, подчеркивается в книге, до сих пор “французское идейно-политическое пространство остается более поляризованным, чем в других постиндустриальных демократиях Запада” (с. 322), а противоборство политических сил постоянно выходит за пределы правового поля.
Подробно рассматриваемый в монографии режим У-й Республики, созданный де Голлем, представлявшим правую, монархическую политическую традицию (идеологические отличия его от Петена связаны, прежде всего, с резким неприятием генералом поражения Франции), и пришедший на смену раздираемой партийной борьбой 1У-й Республике, некоторые исследователи рассматривают как своего рода бонапартизм XX в. Одновременно в нем есть определенное сходство с режимом, установившимся в России после короткого периода хаотичной, впадающей в анархию и раздираемой партийными страстями зачаточной и оказавшейся, по сути, “абортивной” демократии конца горбачевской – начала ельцинской эпох. Французский режим У-й Республики вначале -это тоже режим колоссальной власти “безальтернативного” президента, “гаранта стабильности”, определившего для себя больший, чем в любой демократической стране, и даже больший, чем в России, семилетний срок. В обеих странах сложились и действуют системы, при которых глава государства избирается народным голосованием, но стоит над кабинетом министров, и роль его в значительной мере ближе к роли монарха, чем непосредственно возглавляющего правительство и прямо отвечающего за его работу американского президента или обладающих относительно небольшими полномочиями и избираемых парламентами президентов в других странах. В обоих случаях громадная концентрация власти в руках главы государства оправдывается необходимостью покончить с хаосом, неопределенностью во власти и поставить жесткий барьер неприемлемым альтернативам – коммунистической и отчасти фашистской. Приведенная в книге фраза сподвижника де Голля Анри Мальро – “Мы останемся у власти 30 лет, ибо между нами и коммунистами нет никого” (с. 289) – вполне могла бы быть произнесена кем-либо из сподвижников Ельцина в 1993 или 1996 гг. В обоих случаях власть президента охотно прибегает к референдумам, обращаясь через головы партий и ослабленного, униженного парламента к страшащемуся своих собственных дестабилизирующих потенций, стремящемуся к стабильности и порядку народу. Даже путинскую “Единую Россию” можно в какой-то мере сравнить с предполагавшей править до бесконечности голлистской партией (несколько “варварский”, “гиперборейский” вариант голлизма). Даже сочетание в идеологии голлистов апелляций к единству нации, идей “величия Франции”, “дирижизма” и элементов популизма в экономической сфере близко к аналогичному коктейлю в “единороссовской” идеологии.
Определенному сходству в политических культурах и порождаемых ими политсистемах параллельна – и взаимосвязана с ним – некоторая аналогия во “внешнеполитическом стиле”, который всегда является проекцией вовне культуры и строя страны. Французский стиль очень отличается от стиля политики США, проникнутой идео-логизмом сверхдержавы, ощущающей себя “маяком демократии”, хронически колеблющейся между изоляционизмом и “крестовыми походами за свободу”, и от непритязательного, прагматичного стиля других западноевропейских стран в послевоенное время. Важнейшей его характеристикой, особенно в голлистскую эпоху, является озабоченность собственными самостоятельностью и величием. Как говорил де Голль, “Франция не может быть Францией без величия” (с. 441). Бесконечно повторявшаяся фраза – “Россия была, есть и будет великой державой” – в более простодушно-примитивной форме выражает то же чувство и те же “комплексы”, усиленные во Франции распадом колониальной империи и поражением1940 г., а у нас – распадом “соцсодружества” и СССР.
Наиболее четко эта “озабоченность величием” проявлялась в эпоху де Голля, и совершенно не случайно, что установление его “полуавторитарного” режима своими ближайшими внешнеполитическими следствиями имело создание французского ядерного оружия (в стратегическом отношении совершенно не нужного и крайне дорогостоящего, но главного атрибута великодержавного статуса государства во второй половине XX в.) и выход из военной организации НАТО. Однако основы этого стиля глубже, чем деголлевская идеология, ибо он сохранялся и при правлении социалистов. Как и у нас, это – системное проявление общенациональной ментально-психологической структуры.
Французские переживания, связанные в распадом империи, – неизмеримо более жестоки, чем муки английской деколонизации, и стремление Франции сохранить хотя бы тень империи, свою “зону влияния” во франкофонном мире (зачастую путем поддержки здесь самых кровожадных диктаторских режимов, вроде тирании Мобуту) вполне сопоставимо с российским стремлением закрепить сферу влияния в СНГ. Даже европейская интеграция, которая, по самой сути этого процесса, связана с ограничением национальных суверенитетов, для Франции была в значительной мере средством “приращения” своего национального значения, связывания Германии и создания “центра силы”, который мог бы конкурировать и с США, и с СССР и в котором главная роль была бы, разумеется, у Парижа. Озабоченность собственным значением, стремление, чтобы во всех вопросах слышался особый французский голос, учитывалось особое французское мнение, естественно вели к тому, что в западном альянсе Франция играла роль главного оппозиционера Соединенным Штатам, видящего в такой позиции основное атрибут-доказательство своей самостоятельности, а в ее успехах – своей значимости. Французские антиамериканизм, страх перед возможностью “однополярного мира”, готовность устанавливать “особые отношения” с антизападными диктаторскими режимами в странах Третьего мира, а также с СССР и КНР сопоставимы -особенно сейчас, когда российская политика лишилась советской идеологической составляющей, – с аналогичными отечественными внешнеполитическими тенденциями. И тот полуальянс, который временно установился у путинской России с шираковской Францией на основе противодействия Вашингтону, – безусловно, не случайность, а проявление не полного, но все же наличествующего “родства душ”.
Но как французский абсолютизм – не русское самодержавие, так У-я Республика – не постсоветская Россия. Франция и в начале У-й Республики – правовое государство, и если французский монархист де Кюстин был потрясен, увидев воочию реальность николаевского самодержавия, то самый авторитарный голлист образца1958 г. пришел бы в ужас, столкнувшись с реальностью постсоветских избирательных кампаний и выборов в РФ и стал бы категорически отрицать сходство наших систем. Эти аналогии, действительно, не следует преувеличивать. Голлисты, как и российские постсоветские руководители, стремились создать систему власти безальтернативного “президента” и не просто поддерживающей его, но являющейся его “тенью” и так же “безальтернативной” и “общенациональной” партии. (Несмотря на несомненно правый генезис голлистской партии депутаты-голлисты в1958 г. демонстративно отказались занять правый сектор в зале заседаний, что символизировало претензии на общенациональный характер – с. 317.) Но они не стремились задавить оппозиционную и просто свободную прессу, не перераспределяли безоглядно на “плебс” в свою пользу собственность, а результаты выборов во Франции всегда отражали реальные, свободно сформировавшиеся предпочтения электората. Сам де Голль не пытался использовать на выборах и референдумах “административный ресурс”, взрыв1968 г. (естественное следствие накапливавшегося в ригидной “безальтернативной” системе и не имевшего нормального легального выхода раздражения) побудил его не “закручивать гайки”, а, напротив, искать пути диалога с обществом. И, когда на инициированном им референдуме1969 г. его предложение по реформе не прошло, патриарх честно ушел в отставку. Это был первый шаг в “деперсонализации” и демократизации созданного им режима. Следующим было поражение голлистской партии, власть которой оказалась значительно более устойчивой, чем личная харизма генерала, что, несомненно, связано с тем, что она была значительно более внутренне свободной и живой, чем ее российский аналог, и в ней не только сосуществовали разные позиции, но была возможна и критика самого лидера.
Франция мучительно выбиралась из полуавторитарного голлистского строя. Громадную роль в этом процессе сыграл Миттеран, который смог создать приемлемую для большинства (тоже, конечно, пугающую, поскольку она предполагала союз с коммунистами, но не слишком) демократическую социалистическую альтернативу и затем смог маргинализовать своего не способного к радикальной перестройке коммунистического союзника. В1981 г. в республике, институты которой были сформированы, исходя из представлений о безальтернативности создавшей ее голлистской правой, к власти приходит левый блок. Победа левых, естественно, была потрясением и породила страхи, но режим У-й Республики и голлист-ская правая выдержали этот экзамен на демократичность. Франция перешла к нормальной, состязательной, предполагающей ротацию у власти разных политических сил демократической политике и одновременно сделала важный шаг на пути к двухпартийной или двухблоковой системе.
Неприспособленность конституции к основанной на состязательности и ротации политической жизни после слома голлистской “безальтернативности” стала создавать множество проблем, поскольку начали возникать ситуации, когда президент – представитель одной партии, а парламентское большинство и правительство принадлежат другой. Открылась полоса конституционных реформ в демократическом направлении – сокращение президентского срока до пяти лет, расширение возможностей его импичмента, ослабляющее централизацию расширение прав местного самоуправления. Тем не менее, скорее всего, конституцию раньше или позже придется менять.
Уважение к закону и морали помогли стране справиться с авторитарными тенденциями французского сознания и французской политики и наполнить демократическим содержанием конституционные формы, которые, при большей готовности власти прибегать к неправовым методам и народа – соглашаться с ними, идеально подходили бы для построения авторитарного “имитационно-демократического” режима. (Недаром “французская модель” была так популярна в странах СНГ в период создания новых конституций в начале 90-х.)
Даже сейчас, как это ярко показал референдум по европейской конституции, во Франции сохраняется значительный “разрыв между политической элитой страны и основной массой граждан” (с. 257), основные партии здесь не полностью интегрируют общество. Тем не менее, сегодняшняя Франция – значительно ближе к устойчивой демократии с двумя ведущими политическими силами, постоянной ротацией власти, включенностью всего общества в конституционный демократический процесс и отсутствием крупных внесистемных сил, чем Франция эпохи де Голля (и, тем паче, в более ранние периоды истории). Меняется и ее внешнеполитический стиль. Страна почти вернулась в военную организацию НАТО, а ее “суверенная” атомная бомба во многом осталась памятником мегаломании прошедшей эпохи. Внешняя политика становится – особенно с приходом к власти Н. Саркози – менее претенциозной и озабоченной национальным величием.
Франция смогла проделать этот путь изживания авторитаризма, хотя и с потрясениями (самое сильное – события1968 г., последний всплеск французского левого радикализма), но без революций, даже “бархатных”. Сможет ли так же мирно проделать аналогичный путь Россия, у которой все происходит значительно позже, чем во Франции, плюс в значительно более жесткой и грубой форме, – большой вопрос. Тем не менее, Франция дает нам пример того, что это – возможно, и каким образом возможно. Думается, некоторые контуры этого процесса во Франции (преодоление “несистемного” характера левой, кризис первой ротации, последующая демократизация конституции), очень вероятно, будут воспроизведены и в России.
Рецензируемая работа представляет собой большую прагматическую ценность для российского читателя, прежде всего тем, что, читая книгу, он все время невольно думает не только о Франции, но и о своей стране. Основной же недостаток монографии, на мой взгляд, заключается в том, что хотя ее участники (и прежде всего сам редактор – Ю.И. Рубинский, автор основных политологических разделов), безусловно, тоже все время думали о России, сравнения с ней в книге -скорее имплицитные, в то время как с США и Британией – тоже не слишком частые, но вполне открытые. Иногда стилистика повествования даже напоминает доперестроечные научные труды, написанные так, что сходства или различия какого-либо зарубежного общества с СССР бьют в глаза, но никогда открыто не заявляются. Сейчас у нас советской цензуры нет, а постсоветская только зарождается и (пока?) на научные тексты не распространяется, и мне думается, что авторы вполне могли бы и не избегать прямых сравнений с Россией. Во Франции – полно хороших книг о родной стране, и то, что у нас решили написать свою, а не просто перевести одну из французских, может быть оправдано только тем, что взгляд русских авторов сформирован особым, своим отечественным опытом, позволяющим им увидеть то, чего не видят другие. Только этим русская книга о Франции может быть важна и для русских, и для французов. Как Токвиль увидел в США то, чего не замечали американцы, а Кюстин в России – то, чего не видели русские, так и русские могут увидеть во Франции то, что не видят -или не достаточно ясно видят – французы. И этот “русский взгляд”, “русский ракурс” должен, я думаю, заявляться открыто и смело – значительно более откровенно, по-моему, чем это сделано в данной книге.
Многие французские проблемы, изложенные в монографии, просто настоятельно требуют сопоставления с аналогичными российскими. Например, опыт Франции мог бы очень помочь лучшему пониманию нами столь дискутируемых сейчас проблем демографии, так же как миграции и изменения национального состава населения. Ведь французские арабы – это, по сути, почти аналоги наших “лиц кавказской национальности”, и проблема их интеграции, не слишком успешно решаемая во Франции, – важный (хотя и, скорее, негативный) опыт для России. Иногда этот недостаток авторского анализа бьет в глаза. Например, глава седьмая – “О модернизации социальной защиты” – очевидно, написана с большим знанием дела, но читать ее с пользой для себя, думается, может только весьма узкий специалист. Рядовой интеллигентный читатель и свою-то “родную” систему социальной защиты представляет очень смутно, и читать о проблемах заграничной ему не очень интересно и просто трудно. Между тем, если бы в этой главе французская система последовательно сопоставлялась с российской, это было бы, несомненно, полезно очень широкому кругу читателей.
Русским надо преодолевать “зацикленность” на себе, переставать видеть в своей судьбе нечто исключительное – или исключительно хорошее, или исключительно плохое, надо учиться видеть свои проблемы как одну из многих национальных модификаций общих проблем современного “глобализирующегося” и демократизирующегося мира. А для этого надо знать проблемы других и постоянно сравнивать себя с другими. Комплексное, масштабное исследование о Франции, выполненное учеными Института Европы РАН, помогает этому процессу (хотя, повторюсь, могло бы помочь еще больше).
Д. ФУРМАН



