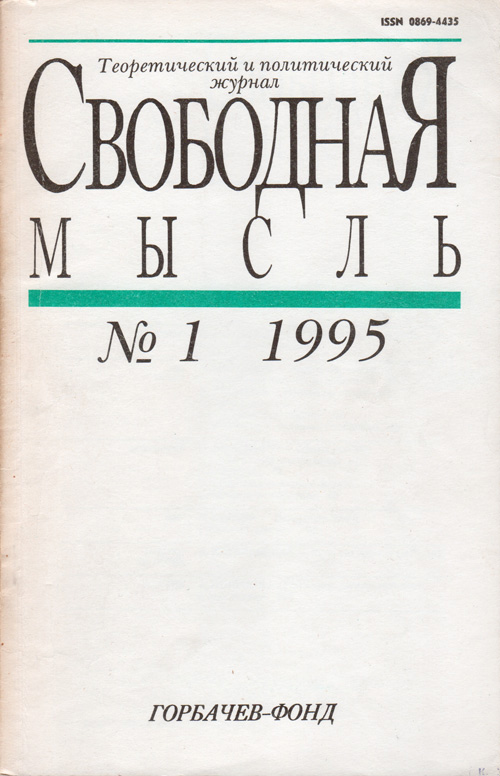 УКРАИНА И МЫ
УКРАИНА И МЫ
Национальное самосознание и политическое развитие
№1 1995
Отношения русских и украинцев до сих пор в громадной мере — отношения «старших» и «младших», «великороссов» и «малороссов». Русские и украинцы слишком близки по языку и культуре, чтобы ощущать друг друга «очевидно другим» народом, как «совсем другими», «очевидно другими» являются для них, скажем, армяне или эстонцы. Но из этих двух действительно «братских» народов русский создал великую империю и великую «имперскую» культуру, украинский же имел «полноценную» государственность только тогда, когда еще не выделился из древнерусского этноса, его культура нового времени была, пользуясь выражением украинского историка и публициста прошлого века М. Драгоманова, «плебейской», его национальное самосознание складывалось поздно и
медленно.
У русских (и у русских правительств, и у русского общества, и у русских революционеров) никогда не существовало враждебности к украинцам как к индивидам и стремления изолировать или дискредитировать их (как это часто было по отношению, например, к евреям любой степени ассимилированности). Но отношение к украинцам как к народу всегда имело массу вариаций. От категорического отрицания того, что это — особый народ, а не этнографическая группа русских, что украинский язык — это язык, а не простонародный южнорусский говор, что украинское национальное движение — «серьезное» движение, а не искусственная конструкция, чуть ли не «оперетта», каковая виделась в нем еще М. Булгакову. И вплоть до некоторых порой не осознаваемых до конца сомнений в этом (даже у ранних большевиков с их искренним интернационализмом серьезное и внимательное отношение Ленина к украинским национальным чувствам являлось скорее исключением). Современный украинский публицист пишет об «иронической несерьезности русского взгляда на Украину», о том, что украинская национальная атрибутика вызывала у русских смех, причем «не смех над чужаком, а смех родственный и оттого гораздо более обидный» {А. Левченко. Русско-украинские хлопоты. — «Независимая газета», 13 декабря 1992 года).
Такие же сомнения в самих себе, в том, действительно ли они — особый народ, а не часть русского, «стоит ли» развивать свой язык (да и язык ли это) или проще перейти на более развитый русский, «стоит ли» добиваться собственной государственности, всегда были свойственны и многим украинцам, причем не только проживавшим в Российской империи, но и австро-венгерским, с их традицией «москвофильства».
Такого рода отношения складывались веками и под влиянием причин серьезных и объективных. А потому быстро измениться они не могут — для этого нужно время. В значительной мере сохраняются они и сейчас, придавая специфическую окраску российско-украинским отношениям как межгосударственным, так и общественным, и нашему восприятию политической и социальной жизни друг друга. В частности, мне думается, этим объясняется и то, что наши средства массовой информации, постоянно говоря об украинских экономических трудностях и неудачах (это укладывается в стереотип — если старшему брату трудно, то младшему должно быть еще трудней), почти не «заметили» и во всяком случае — не оценили важнейшего достижения украинской политической жизни — того, что парламентскими и президентскими выборами 1994 года Украина, осуществив мирный и демократический переход власти от одного президента и политического блока к другому, резко обогнала в своем политическом развитии Россию. Украина сдала, если так можно выразиться, экзамен на демократию, который мы провалили в октябре 1993 года, и все еще не ясно, когда решимся на пересдачу. И то, что это произошло на фоне страшных экономических трудностей (в громадной степени порожденных объективными причинами, а не незадачливостью украинского руководства), лишь увеличивает украинские заслуги (экзамен сдавался «на пустой желудок»). В политическом аспекте, аспекте построения демократии, «младший брат» оказался более «талантливым», чем «старший» — факт, который, видимо, просто не дошел еще полностью до сознания «старшего», ибо как бы подрывает саму идею «старшинства».
Цель настоящей статьи – попытаться в какой-то мере понять, почему и как это получилось. Политическое развитие русского и украинского народов за последние десять лет можно сравнить с творческим процессом двух художников, пишущих картины на заданные сюжеты. Художники эти — люди с очень разными индивидуальностями. Но вначале сюжет настолько подробно разработан и жестко, канонически задан, что их разные индивидуальности проявляются на картинах лишь в очень незначительных стилистических различиях, заметных лишь опытному взгляду искусствоведа. Такие практически тождественные картины являла собой политическая жизнь Украины и России в «предперестроечный» период. В следующий, «перестроечный», контроль ослабевает, сюжет задается лишь «в общих чертах», а стилистические различия становятся все заметнее. Наконец, в «постперестроечный» период внешний контроль вообще исчезает, а стилистические различия достигают размеров, когда разная «трактовка» сюжетов переходит уже просто в различие сюжетов. Если вначале различия картин надо искать, а их сходство, почти тождественность — очевидны, то штурм «Белого дома» и выборы в Государственную думу, принесшие успех Жириновскому и Зюганову, и парламентские и президентские выборы на Украине, наоборот, — картины очевидно различные, и лишь пристальный анализ может обнаружить в них некоторое сохраняющееся сюжетное сходство.
Ослабление, а затем — исчезновение контроля «раскрепощают творческие индивидуальности», и то, что изображается на полотне, все более определяется глубокими различиями в психологии «художников». Их разные личности все более адекватно выражаются, потенциал все более «актуализируется». Поэтому, если мы хотим понять, как и почему картины становятся все более разными, мы должны в какой-то мере уяснить себе различия личностей их создателей.
Точно, четко и полно показать отличия психологии и культуры двух народов — задача столь же невыполнимая, как и задача четко и полно показать различия двух индивидов. Но некоторые различия очевидны, и зафиксировать их не так уж сложно.
Прежде всего следует понять, что родственная близость далеко не всегда означает сходство. Братья могут быть очень похожи внешне и иметь общие, связанные с генотипом, психологические черты. Но разное положение в семье, ситуация «младшего» и «старшего» способны глубочайшим образом повлиять,, на их личности, сделав их лишь внешне похожими, а на деле — совершенно разными людьми. Именно очевидное сходство русских и украинцев и их очевидно разное положение в восточнославянской семье породили громадные различия в их самосознании. Языковый барьер между русскими и украинцами настолько невелик, а доминирующее положение и большая развитость русской культуры — настолько очевидны, что ассимиляция русскими украинцев происходит предельно легко. (На Кубани, например, еще в 1926 году украинцев было 49 процентов, сейчас — 3 процента, большинство просто не выдержало натиска русского языка и русской культуры и утратило украинское национальное самосознание, стало русским.) Но эта легкость ассимиляции как раз и говорит о громадных отличиях в самосознании — непоколебимо уверенном в себе русском (не в ценности «русскости» — такой уверенности у русских как раз не хватает, но в ее очевидности) и сомневающемся в себе украинском. И, как всегда в подобных случаях, оборотной стороной этих сомнений в самих себе является стремление части украинцев всячески утвердить и подчеркнуть свою особость.
Ситуация «старшего» и «младшего» была в СССР закреплена институционально и идеологически. Создавшая и скреплявшая это государство коммунистическая идеология не была в такой мере чужда украинцам, как, скажем, эстонцам или туркменам. Преимущественно крестьянский народ, практически не имевший своих помещиков и буржуазии, украинцы тяготели к левым идеологиям. Именно эти идеологии доминировали среди них в годы гражданской войны и в период первой попытки создать независимое государство современного типа, лидеры которого, такие, как В. Винниченко, фактически были «национал-коммунистами». И все же Октябрьская революция — революция в первую очередь русская, большевики пришли с Севера и Востока и уничтожили Украинскую Народную Республику. И хотя 20-е годы — годы ленинской национальной политики и нэпа — были хорошим временем для Украины, куда в это время вернулись из эмиграции многие деятели Центральной Рады, 30-е годы стали трагическими. Они принесли с собой отнявший жизнь у 6 миллионов людей голод, равного которому Россия не знала, и постепенное превращение СССР в новое издание Российской империи — государство, официально признающее главенство русского народа и преемственность со старой Россией, где отношение к украинцам стало в определенной мере напоминать дореволюционное. При полном отсутствии дискриминации на индивидуальном уровне по отношению к украинцам государство жесточайшим образом боролось с любыми проявлениями украинского «национализма», который понимался неизмеримо «шире», чем, скажем, армянский или узбекский. Фактически любое прославление Украины истолковывалось как национализм, и в этом имелась своя логика, ибо при близости украинцев и русских любое утверждение ценности украинского своеобразия было потенциально «антимосковским», подразумевая утверждение ценности отличий украинцев от русских. Фактически восстанавливалась и политика русификации — если не запрета на все украинское, то, во всяком случае, поощрения ассимиляционных процессов.
Положение в общем государстве русских и украинцев, таким образом, было очень разным, и разным должно было быть восприятие этого государства и его истории. Для русских Петлюра — это почти ругательство, а Бандера — просто что-то жуткое. Но для украинца — любого, даже ничего о гражданской войне толком не знавшего, фамилия Петлюры не могла иметь такой негативной окраски, а на Западе Украины сохранилась память о партизанах, ведших жестокую, безнадежную и самоотверженную борьбу еще в 50-е годы. Для украинцев 20-е годы — период национального подъема, для русских же это время — все, что угодно, но никак не период национального подъема. Для русских сталинский период, может быть, и очень страшный и отвратительный, но все же — период, когда возникла самая великая в мировой истории (от Меконга до Эльбы) империя, в которой главенствовали русские, а для украинцев — это период голодомора и русификации.
Но русскими и украинцами не только по-разному воспринимаются разные эпизоды и периоды советской истории. Для понимания особенностей политического поведения народа очень важно представлять себе, какую идеологическую и политическую окраску имели периоды наибольшей славы этого народа, на которые он ориентируется (сознательно или бессознательно), строя свою сегодняшнюю жизнь. Для русских это — периоды мощного централизованного государства, наш самый «естественный» герой — Петр 1, и даже для реформаторов и либералов герой у нас — П.Столыпин (реформатор, но все же и «вешатель»). Для украинцев — это периоды казацких освободительных войн и очень своеобразных, почти «республиканских» и «демократических» форм государственного устройства, ничего общего с русским самодержавием не имеющего.
Совершенно разный характер у украинцев и русских имеют и региональные и «субэтнические» различия. У украинцев они, очевидно, больше и самое главное — связаны со специфическим фактором — большей или меньшей русифицированностью и большей или меньшей «податливостью» русификации. По данным переписи 1989 года, более 98 процентов украинцев считало своим родным языком украинский в Волынской, .Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, меньше 80 процентов — в Одесской (74,1 процента), Донецкой (59,5 процента), Луганской (66,3 процента), Запорожской (72,9 процента). При этом относительно большие цифры украинцев в восточных и южных областях, считающих родным языком украинский, не должны вводить в заблуждение. Реально русификация значительно больше, и в Донецкой области, например, в 1992 году только 9 процентов школ, в основном сельских, были украинскими.
Отчасти это деление на стойко украинский Запад и русифицированные Восток и Юг (большая часть областей — между этими группами и пространственно и по степени русификации) обусловлено разным удельным весом русского меньшинства (или, как в Крыму, — даже большинства) — естественного проводника русификации. Но причины такого деления Украины — не только в миграции русских на Юг и Восток, они значительно глубже. Западные области — более украинские потому, что, как это ни странно звучит, они ближе к Польше и большую часть своей истории находились «под поляками». Поляки стремились к полонизации Украины ничуть не меньше, чем Москва — к ее русификации, но полонизация, в отличие от русификации, наталкивалась на мощный барьер в виде религии. Переехавший в Россию или оказавшийся в русской среде украинец легко и незаметно для самого себя становился русским, но стать поляком он мог, лишь переменив веру. Поэтому западная этническая граница Украины проведена четче, она менее «прозрачная», чем восточная. Но на Западе была еще и униатская церковь, католическая церковь восточного обряда, создававшая жесткую границу и по отношению к полякам, и по отношению к русским. Выдающийся украинский историк И. Рудницкий писал: «Восточный обряд проводил жесткую разграничительную линию, отделявшую его приверженцев от поляков, в то время как подчинение Риму было бастионом против русского влияния» (/. Rudnytsky. Essays in Modern Ukrainian History. Edmonton, 1987, p. 23). И хотя царизм, а затем и советская власть, выкорчевывали униатство, в Галиции в подпольной и полуподпольной форме оно сохранялось все годы советской власти.
Но западные области — не только регионы с более четким национальным самосознанием и частично — с иной религией. Это еще и области с иной исторической традицией и иной (в советское время, естественно, латентной) политической культурой. Галичина в парламентской Австро-Венгрии создала развитое гражданское общество, а затем Галичина и Волынь оказались в составе Польши, где легально действовали украинские национал-демократические партии. Во время войны именно здесь — бастион ОУН. Деление на Восток и Юг, с одной стороны, и Запад, с другой, — самое важное и глубокое, но вообще карта Украины очень «пестрая». Закарпатье, находившееся в составе Венгрии и Чехословакии, — это совсем иной мир, нежели Галиция, Одесская область по степени русифицированности близка к Луганской, но здесь — совсем иная культура, иные и живые традиции.
В потенциальной форме вся специфика последующей украинской политической жизни уже присутствует в доперестроечный период. Глубоко отличное от русского украинское восприятие своего положения в общем государстве, особенности национального самосознания и содержания национальной исторической памяти, своеобразные и глубокие региональные различия — все это уже есть и как бы стремится прорваться наружу, быть перенесенным на «историческое полотно». И в какой-то минимальной степени эти особенности уже «пробивают себе дорогу», находя заметное лишь для пристального наблюдателя, но все же реальное политическое выражение и в позднесоветскую эпоху.
Внешне на Украине все то же самое — обкомы и райкомы, чуть фрондирующая либеральная интеллигенция и крохотные группки диссидентов, формально полное господство на деле абсолютно утратившей способность вызывать веру и преданность идеологии и всеобщее (и абсолютно ложное) убеждение, что никакие реальные изменения в обозримом будущем невозможны. Но в этих почти тождественных картинах есть легкие «стилистические» различия.
И. Рудницкий, на которого мы уже ссылались, писал, сравнивая украинское и русское диссидентство: «Русские диссиденты разделены на несколько непримиримых фракций, и коммунисты-реформаторы, либералы западного толка и неославянофилы не говорят на общем политическом языке. Наоборот, украинская оппозиция представляется куда более единой. Объединяющим фактором для всех украинских диссидентов, несомненно, является национальный фактор… В России патриотизм или национализм работают в основном на пользу теперешнему режиму, который поднял русское государство на вершину власти и престижа… На Украине… патриотическое чувство спонтанно направляется против статус-кво» (/. Rudnytsky. Ор. cit., р. 484 — 485).
У «старшего брата» нет оснований для специфически национального протеста, и только крайние националисты могли ощущать, что СССР — недостаточно «русское» государство, и стремиться к возвращению «незакамуфлированной» Российской империи — но такие националисты не могли быть демократами 14. либералами. На Украине, наоборот, демократический и национальный протесты в
основном совпадают. Эта одновекторность демократического и национального должна была не только сплачивать украинское диссидентство, но и усиливать его. Систематическое сравнение диссидентства в России и на Украине по всем параметрам — очевидно, дело будущего, но предпринятый Б. Кравченко анализ данных о 942 украинских диссидентах говорит о его несколько большем, чем в России, масштабе, более широком географическом распространении и большей национальной однородности (Б. Кравченко обнаружил в нем лишь 0,5 процента русских и 9,9 процента евреев и крымских татар). Очень четко в этой диссидентской статистике видна и особая роль Западной Украины. Не случайно, разумеется, что 25 процентов украинских диссидентов — из Львова. По этому показателю Львов — вторая столица Украины (из Киева — 38 процентов) и далеко обгоняет значительно более крупные города Востока и Юга — Днепропетровск, Харьков, Одессу, Донецк (B. Krawchenko. Social Change and National Consciousness. L, 1985, p. 251).
Но национальный фактор не только сплачивает и усиливает украинское диссидентство. Он, очевидно, создавал и некоторые, во всяком случае, потенциальные, связи диссидентства и «партократии». Украинские «аппаратчики» пользовались в России репутацией особенно консервативных. Возможно, так оно и есть, ибо союзная бюрократия была, очевидно, более культурной и более подверженной западным влияниям. Но украинская зато обладала длительной традицией сопротивления московскому централизму. И если эпизоды такого сопротивления в 20 — 30-е годы были «древней историей», то последняя попытка украинской партноменклатуры отстоять свою автономию и в какой-то мере создать заслон русификации была предпринята сравнительно недавно и завершилась лишь в мае 1972 года снятием П. Шелеста и заменой высшего эшелона партаппарата, продемонстрировавшего в это время очень необычную для СССР «идейность» (снятие Шелеста поддержали лишь 3 из 25 первых областных секретарей). Таким образом, даже в монотонном однообразии брежневской эпохи исподволь и несмотря на строжайший контроль проявляются разные индивидуальности «двух братьев». Естественно, что когда контроль ослабевает и общество покидает страх, различия становятся все заметнее.
Развитие политической жизни в горбачевскую эпоху проходит во всех республиках через общие, логически следующие друг за другом стадии. Сначала, в дополнение к ожившему старому диссидентству, возникают массовые движения вокруг не политических, но «нагруженных» колоссальным скрытым антисоветским содержанием требований — экологического (на Украине из-за Чернобыля — особенно мощного) и охраны памятников. (Впоследствии эти движения-прикрытия отступают на задний план.) Далее начинают оформляться широкие демократическое движения (Рух и ДемРоссия), внешне «в поддержку политики партии, направленной на перестройку», фактически же — все более нацеленные на приход к власти. Во главе этих движений — часть диссидентов, «статусные» представители осмелевшей либеральной интеллигенции и новые лидеры, делающие в этих движениях свою политическую карьеру, массовая же их база — интеллигентские низы. Эти движения добиваются определенных успехов уже на выборах народных депутатов СССР и проводят большие группы своих кандидатов в народные депутаты РСФСР и Верховный Совет Украины (но полной победы на республиканских выборах не добиваются — в этом три славянские республики резко отличаются от Прибалтики, Армении и Грузии). В новых республиканских парламентах демократы — меньшинство, но очень активное. Большинство в них — партномен-клатура. Но постепенно это большинство начинает распадаться — номенклатурные депутаты перебегают в антисоюзный «демократический» лагерь. Оба парламента все более вступают в конфликт с Центром и идут по пути «суверенизации». Августовский путч 1991 года наносит Центру удар в спину, а беловежские соглашения вообще уничтожают союзное государство.
Сюжет опять-таки общий. Почти каждая российская политическая фигура имеет своих украинских аналогов. Кравчук — это, естественно, украинский Ельцин — номенклатурная фигура, переметнувшаяся в «демократический» антисоюзный лагерь и возглавившая борьбу за суверенизацию. Черновил — что-то среднее между Сахаровым (диссидент) и Собчаком (мэр крупного города, в котором победили демократические силы) и т.д. Но если присмотреться к идеологии, психологии и социальной базе антисоюзных и антикоммунистических блоков в наших двух странах, мы увидим очень большие различия.
Союз Кравчука (и кравчуковской номенклатуры) и Руха—это, конечно, брак по расчету, позволивший руховцам использовать номенклатуру для достижения независимости, а номенклатуре — удержать свои позиции. Но нельзя сказать, чтобы в этом браке уж совсем не было любви — если не друг к другу, то к Украине и ее независимости. Позиции диссидентов и «партократов» действительно совпадали в самом важном пункте — стремлении к независимости, что делало их союз относительно органичным, естественным и имеющим реальные идейные основания. Когда Л. Скорик говорит: «Я… всегда готова спрятать и свой гонор, и свои амбиции, и свой прежний критицизм и подчинить их делу поддержки всех и каждого, кто и хочет и умеет вести государственный корабль Украины» («Правда Украины», 14 августа 1993 года) — все ясно и понятно. И это — именно союз, а не «слияние в любви», ибо Кравчук не становится лидером демократов и на президентских выборах 1991 года демократические лидеры — его конкуренты.
Аналогичный союз Ельцина и ДемРоссии — значительно более тесен (Ельцин в отличие от Кравчука — «лидер демократических сил») и одновременно значительно более «странен», ибо лишен естественного, не вызывающего вопросов и сомнений национального основания — московский горбачевский Центр мог рассматриваться как национально чуждый в Киеве и Львове, но не в самой Москве. Российский демократизм в отличие от украинского — антинационалистичен и едва ли не «антинационален» (поддержка демократами русских меньшинств в союзных республиках в то время была просто немыслима). Такой последовательный антикоммунизм и демократизм, не останавливающийся перед разрушением государства, в котором твой народ занимает главенствующую позицию и которое обрекает значительную часть этого народа на положение нацменьшинства, естественен (и может вызывать лишь уважение) у людей типа Сахарова. Но переход на такие же позиции людей с прошлым Ельцина может быть объясним или глубочайшим идейным переворотом, превращением Савла в Павла (такие перевороты, очевидно, должны сопровождаться видимыми глазу страшными душевными терзаниями) или же — что, скажем честно, куда более вероятно — трезвым, циничным расчетом, пониманием того, что давления со всех сторон горбачевский Центр в конце концов не выдержит, и точно таким же использованием в карьеристских целях антикоммунистической фразеологии, как прежде использовалась коммунистическая. Этот переход начисто лишен той естественности, которая присуща соответствующим трансформациям украинской номенклатуры («в конце концов все мы —украинцы»).
Но российский антисоюзный лагерь (здесь почти логическое противоречие — «московский — антимосковский») еще более причудлив. Ведь наряду с людьми принципиально и убежденно космополитическими и теми, кто ради власти и денег готов быть кем угодно, его составной частью были и люди, стоявшие на позициях русского национализма, которые стремились отнюдь не к освобождению других народов, а скорее к тому, чтобы СССР стал «неприкрытой» Российской империей. Такие люди не только начали борьбу за Российский ЦК, Российскую академию наук и т.п., но в 1991 году многие из них просто были в ельцинском лагере, где в одной шеренге стояли Стерлигов и Шейнис, Константинов и Шабад, Севостьянов и Собчак. В какой-то мере эта противоестественная смычка объясняется болезненно-мифологическим сознанием русских националистов, которые просто не ведали, что творили, не понимали, что разрушают и чего добиваются (в отличие от украинских, которые ясно понимали, чего они хотят — независимой Украины), и попали в яму-ловушку, выкопанную и демократами-космополитами, и ими самими и укрытую приманивающей их российской атрибутикой в виде Георгиев Победоносцов, двуглавых орлов и казачьих мундиров. Отчасти же здесь имелось и другое — глубокое отвращение к горбачевским «либерализму» и «неопределенности», которое психологически были им непереносимы. Как сказал депутат Севостьянов после беловежских соглашений, пусть не стало СССР, но зато мы избавились от Горбачева.
Таким образом, российский антисоюзный лагерь — неизмеримо противоречивее, чем украинский, ибо лишен простой и ясной общей идеи — того инстинктивного стремления к свободе своей нации и ее подъему, которое могло реально, не конъюнктурно и без обманов и самообманов сплачивать украинских «партократов» и диссидентов и которое в самом диссидентстве Украины сливало воедино демократический и национальный протесты.
Глубокие различия украинского и русского антисоюзных лагерей видны и в том, какими факторами определяется их массовая база. Основной оплот русского антисоюзного и антикоммунистического блока — массовая интеллигенция и «полуинтеллигенция» больших «космополитических» городов — Москвы и Ленинграда. К этому «ядру» примыкали и рабочие крупных промышленных центров, чьи недовольство и социальный протест — естественны, но идеологическая окраска этого протеста скорее была привнесена извне. Чем провинциальнее, чем менее развита область, тем менее она «демократична».
Совсем иная картина на Украине. Мы приводили выше список восьми западных областей, в которых больше 98 процентов украинцев считает родным языком украинский. Если сравнить его со списком областей, в которых на референдуме 1 декабря 1991 года независимость поддержало более 95 процентов населения, то увидим почти полное совпадение. Из списка выпадает Закарпатская область, где имеется большое венгерское меньшинство, а у украинцев — сильное субэтническое «русинское» самосознание, но прибавляются Черкасская (фактически она входит в эту группу, ибо украинцев, считающих родным языком украинский, здесь 97,9 процента) и, что очень естественно, Киевская. Меньше 90 процентов избирателей высказалось за независимость в Одесской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму. Скорее регионально-национальный (по степени «украинскости» и, наоборот, русифицированности), а не социальный характер украинских размежеваний виден очень четко. Против московского центра, коммунистов и советской власти прежде всего — западный бастион Руха. Живая цепь, устроенная украинскими демократами по примеру прибалтов в 1989 году, протянулась от Львова до Киева. Дальше на Восток — иной мир. Здесь тоже большинство населения — украинцы и оно тоже за независимость (больше того, за независимость были и многие русские, увлеченные общей волной). Но все же здесь и у русских и у русифицированных украинцев есть опасения, что независимость повлечет за собой разрыв привычных связей и волну украинизации, идущую с Запада. Недовольства здесь много, и донбасские рабочие проявляют большую забастовочную активность. Но их требования — прежде всего — экономические. И интеллигентское демократическое движение в крупных городах Востока — демократическое, но без подчеркнуто национального оттенка западного движения.
Национальный фактор сплачивает украинский антисоюзный блок, вообще сплачивает Украину в ее противостоянии Центру (как он сплачивал все народы СССР, кроме русского, ибо у всех у них демократическое антикоммунистическое движение естественно принимало «национально-освободительную окраску»). Но культурная близость русских и украинцев и русифицированность восточных и южных областей Украины порождают здесь особый тип размежевания, которого нет в Прибалтике или Закавказье — размежевание между «интенсивным», переходящим в национализм, национальным самосознанием Запада и тоже украинским, но более «мягким» самосознанием Востока. Восток смягчает украинское национальное движение, не дает ему в целом приобрести ту степень интенсивности, при которой оно перешло бы в ксенофобию (тенденция к этому на Западе, безусловно, есть), не дает противостоянию Москве перейти в противостояние русским «мигрантам», как это произошло в Прибалтике.
После разрушения СССР различия в «стиле» политической жизни России и Украины постепенно переросли в различия в «сюжетах» — украинская и российская политические жизни в конце концов стали принципиально разными.
Для нашей прессы и формируемого ею массового сознания основное отличие Украины от России заключается в том, что Россия смело идет по пути реформ, а «туповатая» (это подразумевается) украинская бюрократия увлекается игрой в атрибуты «самостийности» и проводить реформы, открывающие путь к счастливому капиталистическому будущему, не хочет и не умеет. С рыночными реформами мы действительно обогнали Украину. Но попробуем понять, почему это так.
Отчасти причины, очевидно, социально-экономические. У Украины нет своих нефти и газа, здесь еще больше, чем в России, производств, которые не выдержат «шоковой терапии» и которые, вдобавок, сосредоточены в наиболее русифицированном и потенциально сепаратистском, взрывоопасном шахтерском Донбассе. Но, очевидно, дело не только в этом, но и в разных идейном климате и иерархии ценностей наших стран.
На Украине в эпоху Л. Кравчука на первом плане — идея независимости. Именно из-за ценности независимости, из-за страха «раскачать лодку», обострив социальные и региональные конфликты в еще не окрепшем, не состоявшемся до конца государстве, украинские национал-демократы, базирующиеся на Западе, где культурно-психологическая готовность к капитализму больше, чем на Востоке, не оказывают слишком большого давления на Кравчука в сторону «построения капитализма», а наиболее последовательно прокапиталистические силы, например, предпринимательская Либеральная партия, имеют базу скорее на русифицированном и в целом поддерживающем «левых» — социалистов и коммунистов — Востоке. В России же, где сплачивающей национальной идеи в антисоюзном блоке не было и быть не могло, «идейный капитализм» играет значительно большую роль. Для демократов идея рынка стала настолько доминирующей, что постепенно отодвигала на задний план саму идею демократии, вызвав мечты о Столыпине и Пиночете и породив теории «необходимости авторитарного периода». (В этой увлеченности идеями и образами авторитарного реформаторства, несомненно, сказывается русская традиция, традиция Ивана Грозного, Петра 1, большевиков, бессознательно воз-действующая и на русских «демократов».) И если для интеллигентов-демократов капитализм приобрел основное идеологическое значение, то для вставшей на сторону антисоюзного блока и затем пришедшей к власти группировки номенклатуры, не имеющей за душой ни национальной, как украинская, ни демократической идеи, приватизация и открывающиеся громадные возможности обогащения стали основным реальным стимулом принятия антикоммунистической идеологии. Таким образом, за разными темпами реформ кроются и глубокие культурные и идейные различия наших стран. Эти различия объясняют и совершенно разные политические конфигурации и разный характер политической борьбы.
Очень много общего у нас и украинцев и на постсоветском этапе. Победившие антисоюзные блоки, естественно, начинают
распадаться. Часть тех, кто примкнул к ним, поддавшись доминировавшему в 1990 — 1991 годах настроению, начинает жалеть о добрых старых временах и переходит в консервативную оппозицию. Аморфные интеллигентские демократические движения типа Руха и нашего демократического движения порождают массу крохотных партий со звонкими «западными» названиями (социал-демократы, христианские демократы, демократы, республиканцы, либералы). Часть демократов, естественно, недовольна, что перемены идут не так быстро, как хотелось бы, и образует радикальную оппозицию или полуоппозицию. Все это накладывается на борьбу центров с федералистскими устремлениями местных властей и президентов с парламентами.
Но различия — колоссальны. Наш антисоюзный блок, не имеющий национальной «скрепки», рассыпается очень быстро, и борьба в нем, наложившаяся на борьбу президента и парламента, приобретает ожесточенный и истерический характер. При этом ядром парламентской партии становится союз коммунистов с националистами, часть которых в 1991 году отчасти «сдуру», отчасти из-за ненависти к горбачевскому либерализму входила в ельцинский блок, но очень скоро стала понимать, что наделала, пришла в ужас и впала в истерику. Союз «красных» и «коричневых» скреплен не только нелюбовью к западному либерализму, общностью авторитарной психологии, но и самой русской историей — тем, что созданный коммунистами СССР фактически был величайшей Российской империей. Борьба этого блока с Ельциным начинает приобретать громадную страстность, характер борьбы с «силами зла», распродающими Россию. Требования парламентской партии — требования контроля над приобретающей все более авторитарный характер властью президента — вполне демократичны, но стоящие за ними настроения и идеи — отнюдь не демократические. Президентская партия — вроде бы «демократическая», и демократы-западники образца 1991 года в основном — в ней. Их ужас перед «красно-коричневой чумой» придает ей страстность и агрессивность не меньшую, чем ужас коммунистов и националистов, перед «распродажей России» придает страстность парламентской партии. Но из-за ненависти к «красно-коричневым» и гипертрофированной роли рынка в их идеологии эти «демократы» вполне готовы пожертвовать демократией, и фактической их целью становится авторитарная власть президента.
На Украине все и так и не так. Самое основное отличие украинской и российской постсоветской ситуации — в том, что на Украине не может быть союза коммунистов и националистов. Психологическая схожесть галицийских возрожденных ОУНовцев и каких-нибудь приверженцев «Трудового Харькова» — есть, и даже их нападки на Кравчука имели общие черты, но союза их быть не могло, ибо история, соединившая в России национализм и коммунизм, на Украине их разъединила. Коммунисты, испытывающие ностальгию по старым добрым временам, могут быть русскими националистами, но не могут быть националистами украинскими. На Украине они, наоборот, выступают против национализма. И националисты украинские, хранящие «светлую память Бандеры», не могут быть терпимы к коммунистам, как могут быть терпимы русские националисты, понимающие все же, что с коммунистической идеологией связан период максимального государственного величия России и что СССР и был Великой Россией. И как националисты и коммунисты на Украине разделены историей, памятью, так они разделены и пространственно, географически. Национализм доминирует на Западе, а коммунисты и социалисты имеют массовую базу на Востоке.
Оппозиция Кравчуку куда более разъединена, чем оппозиция Ельцину. Коммунисты и социалисты — это одна оппозиция, ультранационалисты — совсем другая, и даже в демократической «полуоппозиции» — два разнородных течения: готовое во имя построения национального государства потерпеть с рыночными реформами (Конгресс национально-демократических сил, Республиканская партия, отчасти и сам, более идеалистически-демократический и «западнический», черновиловский Рух) и более «рыночное» и с меньшей национальной окраской («Новая Украина»). Это разъединение смягчало борьбу, не давало ей, как в России, превратиться в «борьбу сынов света с сынами тьмы».
Кравчук так же, как и Ельцин, хотел больше власти, а украинский парламент, как и российский, хотел больше власти для себя, тоже не хотел уходить и тоже был более консервативен, чем блок крав-чуковской номенклатуры и демократов. Но исход борьбы оказался совершенно иным. «Стилистические» различия приобрели принципиальный характер. В России произошла кровавая бойня 4 октября 1993 года, а на Украине и парламент и президент, немного покочевряжась, пошли на выборы. И мы видим, что это — не случайно, не просто потому, что Кравчук — «добрее» и менее властолюбив, чем Ельцин, а Плющ — более спокоен и менее честолюбив, чем Хасбулатов. Различия личностей наших политических деятелей тоже играют большую роль, но главное не в этом, а в глубинных культурных различиях — роли национальной идеи на Украине, ее «одновекторности» с демократическими, освободительными идеями, невозможности на Украине блока «красных» и «коричневых». Да и сами различия личностей в громадной мере производны от раз-
личия культур. Россия, в которой даже демократы усматривали образец в Столыпине, должна была выдвинуть фигуру, упивающуюся своей «мужественностью» и «решительностью», которой противостоят тоже очень «мужественные» фигуры Руцкого и Хасбулатова (а на горизонте маячит просто жуть какая мужественная фигура Жириновского). В штурме «Белого дома» бессознательно или сознательно обеими сторонами, воспроизводятся русские «архетипы» штурма Зимнего дворца. На Украине — иная история, иной образ своей власти, а поэтому и выдвигаются люди с иной психологией, чей индивидуальный стиль поведения отражает иной «национальный стиль».
И на Украине и в России история сыграла с демократами злую шутку. Они требовали роспуска «реакционных парламентов» и новых выборов. Результаты этих выборов повергли их в состояние шока, ибо новые парламенты оказались еще более «реакционными». У нас на декабрьских выборах в Думу по партийным спискам партия Жириновского и коммунисты оставили далеко позади «Выбор России», а на Украине национал-радикалы и национал-демократы в апреле 1994 года получили 41 место, а коммунисты и социалисты — 100 (впоследствии, на втором туре, дела национал-демократов несколько улучшились и большинства коммунисты и социалисты все же не получили, большинство — беспартийное).
Движение в народном сознании, зафиксированное и нашими и украинскими выборами, это движение «возвратное». Это — естественное и нормальное движение, ибо за любым порывом вперед и периодом энтузиазма всегда — и у индивидов и у народов — наступают усталость, разочарование и ностальгия по прошлому. Нет революции, которая в какой-то форме — явной или неявной — и какой-то мере — большой или малой — не порождала бы контрреволюцию, нет либерально-прогрессивной волны, которая не порождала бы волны консервативной. И у нас и у украинцев выборы зафиксировали реакцию на «дух 1991 года». Но, как мы видели, дух этот был во многом разный, соответственно и реакции на него тоже разные.
Для Украины «дух 1991 года» — это дух «национального романтизма», национально-освободительного энтузиазма. Естественно, что это также период доминирования в общественно-политической жизни Украины западных областей, наименее русифицированных, с наиболее развитым национальным сознанием, «тянущих» за собой сомневающийся и относительно пассивный Восток. Поэтому и реакция на него — это прежде всего движение от национального романтизма и реакция Востока и Юга на галицийское доминирование. Но на Украине «дух 1991 года» — лишь в незначительной мере дух «рыночного романтизма». Реформы при Кравчуке идут значительно медленнее, чем в России, и население связывает свои экономические тяготы не столько с капиталистическими реформами, сколько с разрывом экономических связей с Россией. Поэтому и успех социалистов и коммунистов на парламентских выборах был, очевидно, не столько успехом антирыночных сил, сколько успехом сил антинационалистических.
Эта роль именно антинационалистической реакции в общем «возвратном» движении на Украине особенно четко видна в результатах президентских выборов. (Эти результаты хорошо исследованы в книге «Украина: ветер перемен». Под общей редакцией Е. М. Кожокина. М. 1994.) Противостояние Л. Кучмы Л. Кравчуку шло по направлениям противопоставления прагматизма национальной романтике, спокойных отношений с Россией линии на конфронтацию с ней и — что, естественно, не провозглашается, но подразумевается — Востока, с которым связан всю жизнь проработавший в Днепропетровске и лишь в последние годы «подучивший» родной язык и перешедший на него, во всяком случае, в официальных выступлениях, Кучма, Западу. Но одновременно Кучма противопоставляет свою готовность к радикальным и болезненным рыночным реформам (при этом, однако, он подчеркивает, что эти реформы не могут быть «гайдаровскими» и должны идти при жестком контроле над госсектором) кравчуковскому «топтанию на месте» и лишь разговорам о реформах.
И поскольку реакция на «дух 1991 года» на Украине — это прежде всего реакция на отвергаемый Кучмой национальный романтизм, за него, «рыночника», голосуют те же регионы, которые на парламентских выборах отдали голоса коммунистам и социалистам. Блок Кучмы крайне противоречив. Это — и социалисты, и коммунисты, и их антиподы — крайние рыночники, объединенные отвержением национализма. И при крайней разношерстности социальной и идеологической базы этого блока его региональная база достаточно очевидна. Это — резко активизировавшиеся в ходе выборов области Востока и Юга.
И, на наш взгляд, не только сам факт проведения выборов, легального и мирного перехода власти от блока к блоку, но и победа именно Кучмы является большой политической «удачей» Украины и способствует становлению жизнеспособного демократического украинского государства. Дело, разумеется, не в том, что Кучма «лучше» Кравчука. Кучма пришел к власти в иное, чем Кравчук, время, выдвинувшее иные задачи, и для предшествовавшего пе-
риода он скорее всего не годился бы (все-таки первый президент независимой Украины должен очень хорошо говорить на родном языке, да и увлеченность атрибутикой и романтикой независимости ему тоже не мешает). Дело совсем в другом.
И национальный романтизм и доминирование более националистического Запада для начального периода украинской демократической и независимой государственности — явления совершенно нормальные. Но национальная эйфория рано или поздно должна была кончиться. Между тем Украина — страна, подвергшаяся сильнейшей русификации. Националистический Запад — слишком слаб, чтобы держать на себе «конструкцию» украинского общества. Западные земли — не самые густонаселенные и не самые промышленно развитые и экономически значимые. Это —и не те земли, где было историческое ядро украинского народа, где разворачивались основные события украинской истории. (Достаточно сказать, что Галичина не знала казачества.) В культурном отношении это земли — своеобразные, в какой-то мере — обособленные, ибо униатство — религия специфически западноукраинская, а большая часть украинцев все же — исторически православные. Запад мог играть роль передового отряда национального движения, но ему трудно играть роль основы, ядра государства и нации. Продолжение доминирования Запада и преобладания духа «национального романтизма» было бы чревато отчуждением от украинской государственности громадных промышленно развитых украинских, но обрусевших, русскоязычных регионов. Победа Кучмы означала подключение этих регионов к общеукраинской политической жизни, она дала людям здесь почувствовать, что украинское государство — это их государство, а не государство киевских писателей и львовских националистов.
Далее, именно потому что эпоха Кравчука — это в сфере социально-экономического реформирования период топтания на месте, наступившая затем «реакция» одновременно связана со стремлением сделать решительные шаги по пути к рынку. Таким образом, Украина сначала заложила основы государственности и демократии, дала народу возможность ощутить, что это — его государство и его голос в нем что-то реально значит, и лишь затем приступила к широкомасштабным реформам. И вполне вероятно, что этот путь — более «здоровый», чем российский, и в более демократической обстановке Украины реформы не выродятся в тотальное растаскивание государственной собственности.
Наконец, сам характер противостоявших друг другу на президентских выборах блоков может создать основу стабильной демократической политической жизни. На наш взгляд, эти блоки в какой-то мере напоминают блоки классической американской двухпартийной системы — с устойчивыми региональными базами (Донецк всегда будет противостоять Львову, как Юг — Среднему Западу в США, и борьба будет вестись скорее за промежуточные, «неустойчивые» области) и очень пестрыми, почти взаимоисключающими и поэтому «гасящими» потенциально опасные и дестабилизирующие тенденции друг друга социальными и идеологическими базами (за Кучму — и социалисты и радикалы-рыночники, как за демократов в США — и белые южане, и негры, и католики, и евреи). При этом различия в позициях Кравчука и Кучмы — достаточно реальные, но все же не настолько большие, чтобы перспектива победы одного из них могла бы рассматриваться сторонниками другого как национальная катастрофа. Очень вероятно, что с победой Кучмы Украина вышла на путь постоянного чередования у власти разных, но одинаково ответственных, «нормальных» политических сил, соперничество которых будет интегрировать общество и «прагматизировать» и «деидеологизиро-вать» политику (уже в ходе предвыборной кампании такая тенденция проглядывала, ибо наряду с подчеркиванием своих различий оба кандидата стремились заручиться в какой-то мере поддержкой и в противоположном лагере, сближая свои образы и позиции, наиболее яркий пример — переход Кучмы на украинский).
В России, к сожалению, — все иначе и все значительно хуже. Если «дух 1991 года» для Украины — это дух национального романтизма, то для России это — дух «космополитизма» и рыночного романтизма. Поэтому и реакция при внешней схожести с украинской (и русским и украинцам все более становится жаль утраты СССР) должна была идти в ином направлении — в сторону усиления национализма и все большего разочарования в капитализме.
Уже в октябрьских событиях 1993 года проявилось совсем другое настроение народа, чем в августовских 1991-го. Выход «демократов» на улицу по призыву Гайдара стал, очевидно, последней демонстрацией силы того слоя, который поставлял участников грандиозных демонстраций 1990 года и защитников «Белого дома» в августе 1991-го. Октябрьская победа Ельцина была последней и уже явно — «пирровой» победой этих людей, победой «демократов» не на подъеме, а на излете их сил, и купленной к тому же ценой установления в стране фактически авторитарного режима.
Между тем естественное разочарования народа и «откат» от «духа 1991 года», очевидно, еще более усилившийся в результате октябрьских событий в декабре 1993 года, приводят к поражению «демократов» (несмотря на их громадную финансовую базу и господство в средствах массовой информации) и победе коммунистов и Жириновского. Теперь «демократам» можно утешать себя лишь тем, что Дума, слава Богу, фактически ничего не значит, то есть тем, что демократии — нет.
Но утешение это — плохое. Расстрел «Белого дома» загнал нас в тупик. Правительственная группировка сейчас уже не только не хочет, но фактически и не может отдать власть, ибо любая иная власть может означать для нее судебные преследования за октябрьские события (а возможно, и за многое другое). Она должна любой ценой цепляться за власть, пытаясь идти за эволюцией массового сознания, перенимая у националистов позу защитников «Великой России» и отшвыривая сыгравших свою партию и ненавистных «красным» и «коричневым» выдвиженцев типа Гайдара и Шохина. Но у нас и нет сильной оппозиции, приход которой к власти мог бы привести к реальному укреплению демократии. У нас нет Кравчука, а есть Ельцин, и нет Кучмы, а есть Жириновский.
Если Украина приходит к настоящей демократической стабильности, то мы пришли к чисто внешней стабильности, чреватой практически неизбежной дестабилизацией. Ибо рано или поздно власть отдавать все равно придется, и если правящая верхушка не отдаст ее нормальным демократическим путем, как это сделал Кравчук, то кто-нибудь возьмет ее силой. И очень мало шансов, что это сделают нормальные политики типа Кучмы.
В начале статьи говорилось, что успех украинцев и неудачи русских в построении демократии противоречат глубоко укорененной в сознании обоих народов идее «старшего» и «младшего» братьев. Но, может, быть, никакого противоречия здесь и нет, ибо, как мы знаем и из русских народных сказок, удача чаще приходит к младшим, а не к «умным» старшим, быть старшим — не всегда хорошо. С новыми, непривычными задачами часто лучше справляются младшие, а не старшие, обремененные не пригодными для их решения привычками. Богатство культурной традиции — далеко не всегда и не во всем преимущество. Традиция сковывает — и не сохранившая великую традицию Византия, а более «варварская» Западная Европа (а в ней — совсем «варварская» северо-западная часть, а не Италия) совершает прорыв к демократии и свободной экономике. И на Востоке первый успешный переход к современному обществу совершает не Китай, с его величайшей культурной традицией, а Япония, с культурой более молодой и «провинциальной». Может быть, нечто подобное мы видим и при сравнении России с Украиной. Само богатство и специфический характер российской культуры, формировавшейся в имперских и недемократических условиях, могут быть препятствием при решении задач построения демократии, а бедность и «плебейский» характер украинской — оказаться преимуществом.
Старшему брату, во всяком случае, в политической сфере — труднее, чем младшему. Его сковывают вредные в новых условиях привычки прошлого. Демократия у него — не получается. Это в какой-то степени унизительно. Но если мы хотим все-таки в конце концов стать нормальной, «приличной» демократической страной, нам следует преодолеть это ощущение униженности и перестать компенсировать его фразами о том, какая мы великая держава. Надо понять, что не только размеры, но и «старшинство» и великое прошлое — не всегда преимущества, и старшим часто нужно, преодолев стыд, идти учиться у младших.



