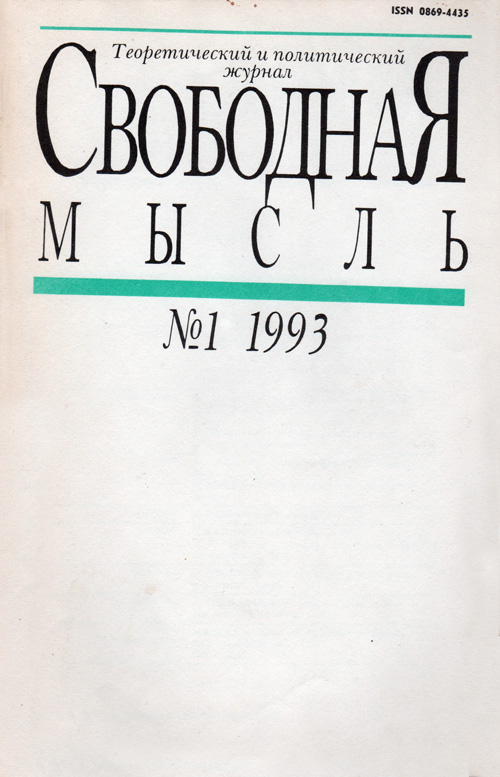 НАША СТРАННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
НАША СТРАННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
№1, 1993
Народы “бывшего СССР” в последние годы прошли через серию революционных потрясений. Многим из них, втянутым в кровавые межнациональные и межгосударственные конфликты, вероятно, предстоит пролить еще немало крови, прежде чем наступит какая-то стабилизация. Вообще всех ожидают очень трудные годы экономического хаоса, обнищания значительной части населения и бурного обогащения немногих. Тем не менее, очевидно, основные революционные события уже позади – распался СССР (и весь “соцлагерь”), утратила власть и была распущена КПСС, страны СНГ вышли на путь “демократического” (во всяком случае, некоммунистического) и “рыночного” развития. Период разгула страстей и судорожной активности, характерной для революционных лет (в развитии страны они всегда что-то вроде “припадка”, маниакальной стадии маниакально-депрессивного цикла), кончился. Наступило некоторое “успокоение” (если не “депрессивная стадия”), по крайней мере, в тех странах, которые не втянуты в национальные конфликты. И вероятно, это время, когда возникают психологические возможность и потребность оглянуться назад, попытаться хоть в какой-то степени понять, что же произошло. Данная статья представляет собой попытку поставить ряд взаимосвязанных вопросов (и наметить, разумеется, гипотетические ответы на них) относительно природы событий последних лет. На наш взгляд, основная “странность” этих событий в том, что, будучи самой настоящей революцией в области идеологии и политических институтов, они произошли, если отвлечься от национальных конфликтов на периферии СССР, мирно и бескровно[1], и при минимальных изменениях в составе властвующей элиты.
Размах символических и институциональных перемен, вполне сопоставимый с революцией 1917 года, совершенно не соответствует их мирному характеру. Страх повторения гражданской войны, довлевший над нашим сознанием, оказался неоправданным. Сопротивление старой номенклатуры было поразительно вялым. Его кульминационный момент – попытка путча в августе 1991 года. Он показал предельную психологическую слабость, неуверенность в себе его организаторов, их неготовность пойти до конца, до пролития крови, а также нежелание старой властвующей элиты реально поддержать путч. Последовавшие за августом действия победителей-“демократов” – запрещение КПСС и ликвидация СССР, – затрагивающие самые сакральные основы старого режима, вообще не вызвали сопротивления. Ни один генерал не попытался повести войска против “разрушителей государства”, более того, ни один даже не подал в отставку. Ни один дипломат, проводивший в жизнь внешнюю политику СССР, не отказался, насколько нам известно, осуществлять совсем иную внешнюю политику России. (Эта “мягкость” и бескровность нашей революции не могла не ощущаться самими “революционерами” как своего рода недостаток, умаляющий масштабы их деяния. Отсюда – неудержимая мифологизация “обороны Белого дома”.)
С этой вялостью сопротивления старой властвовавшей элиты, резко контрастирующей с поведением аналогичных элит во время французской, первой русской или вообще любой иной революции и совершенно не соответствующей масштабу перемен, связана и другая удивительная особенность нашей “странной революции” – то, что у нас сейчас практически не может идти речь о новой и старой элите. Элита у нас в целом, за исключением немногих отдельных “вкраплений”, – прежняя, и все грандиозные символические и институциональные перемены произошли при минимальных изменениях в составе правящих кругов.
Наш президент, запретивший КПСС и под гром аплодисментов американских конгрессменов провозгласивший гибель коммунизма, еще совсем недавно был одним из секретарей обкома (притом не самым либеральным) и затем кандидатом в члены Политбюро. И он отнюдь не исключение. Руководители большинства стран СНГ – бывшие крупные партийные работники, причем эпизод с Гамсахурдиа и возвращением Шеварднадзе особенно рельефно подчеркивают прочность старой элиты. Необходимы специальные исследования преемственности наших правящих кругов, но то, что в современной революционной ситуации социальная мобильность не больше, а преемственность элиты не меньше, чем, например, в далеко не революционные хрущевские годы, на мой взгляд, несомненно.
Эти особенности, “странности” нашей революции, по-моему, и должны, прежде всего, быть предметом размышлений и анализа. И для того чтобы понять их, мы должны разобраться в истоках нашей революции, в том, какие процессы – идеологические и социальные – ее подготавливали.
Любой революции предшествует длительный идейный процесс – люди перестают верить в господствующую, поддерживающую старый режим и неспособную адаптироваться к новым знаниям, к новым реалиям идеологическую систему. Ее увядание естественным образом начинается с наиболее образованных слоев, которые раньше других в состоянии увидеть противоречие ею навязываемых догм и реальности (то есть скорее сверху, с элиты общества). Неверие, сомнения, скепсис, новые идеи проникают в народ, в котором всегда есть потенциал социального протеста, где в конечном счете и формируется революционная контр идеология. Ее создатели и вдохновители – обычно наиболее идеалистические или социально маргинальные представители старой элиты, которые после революции вместе с массой выдвиженцев из низших социальных слоев формируют новую элиту. Такой процесс всегда шел перед революциями. Шел он и в предперестроечные годы.
Марксистско-ленинская идеология, превратившаяся при Сталине в окостеневшую догму, быстро утрачивала какую-либо притягательную силу. Ее предсказания не сбывались. Накапливаемые наукой новые знания ей противоречили. В начале века являвшаяся вполне живой духовной силой, где-то уже в 60-е годы она потеряла способность вбирать в себя реальные духовные процессы общества, которое становилось все более образованным и, следовательно, было все более способным замечать постоянно растущие противоречия между содержанием официальной идеологии и реальностью. Естественно, что утрата веры в официальную идеологию ведет к деморализации самых широких общественных слоев более образованной элиты, чьи интересы побуждают ее говорить и делать то, во что она не верит, и народных масс, тоже видящих противоречие идеологии и реальности, цинизм элиты. Естественно опять-таки, что появляются люди, которые не выдерживают тотальной лжи и порывают с прежней идеологией и с обществом, отказываются от карьеры и конформизма и вступают в борьбу с обществом.
На новом витке спирали повторяется то, что предшествовало 1917 году. В Солженицыне и Сахарове легко усмотреть аналогию Герцену и Чернышевскому, в диссидентских кружках – народническим и марксистским кружкам. Но сравнение этих двух витков спирали раскрывает и колоссальные различия. Наше диссидентское движение было неизмеримо, на несколько порядков слабее революционного движения начала века. Слабее во всех отношениях – в численном, моральном, организационном, наконец, в идейном. (Поразительный факт, но во много раз более образованное общество 70-х – начала 80-х годов не породило ничего даже отдаленно напоминающего тот расцвет и революционной, и реформаторской мысли, который сопровождал 1905 и 1917 годы.) Слабость диссидентства, безусловно, является важнейшей характеристикой подготавливавших “перестройку” процессов. Она прямо связана с особенностями самой революции 1991 года. Чем же объясняется эта слабость?
Очевидно, не столько мощью репрессивною аппарата, который не мог помешать многим религиозным сектам создать хорошо организованное подполье, не мог помешать возникновению влиятельных мафиозных групп и проявил свое полное бессилие, когда начались национальные конфликты. И не относительной еще силой старой идеологии, которая, как показала перестройка, была предельно немощна, неизмеримо слабее старой идеологии кануна 1917 года, оказавшейся все же способной побудить значительное число людей умирать “за царя, за Родину, за веру”, в то время как в 1991 году оказался готовым к смерти “за веру”, кажется, только один человек, маршал Ахромеев.
Что же тогда? Просто трусость, расслабленность, вялость? Тоже не так. Во-первых, даже если и так, то эти качества надо объяснить какими-то идейными и социальными причинами. Не просто же люди стали трусливыми. Во-вторых, национальные конфликты в ряде стран СНГ показывают, что люди вполне готовы убивать и умирать. Но почему же они не были готовы убивать и умирать, борясь с идеологией, в которую фактически никто не верил, со строем, легитимность которого мало кто признавал?
На наш взгляд, причины этого – прежде всего общецивилизационные, накладывающиеся на специфические условия советского общества.
Разумеется, крайне огрубляя и схематизируя развитие человеческой мысли, мы можем сказать, что в истории человечества за эпохой господства религиозно-догматических систем шла эпоха господства систем “философско-идеологических”, пытавшихся опереться на науку и ориентированных на построение счастливой жизни на земле (для всех людей или для одного народа). Самая яркая и “успешная” идеология – марксизм, но ведь период с конца XVIII до середины XX века был периодом доминирования идеологий, которые если и не побеждали в масштабах одного или нескольких обществ, то определяли идейную жизнь общества и мира в целом. Это и всякого рода прогрессистские философско-идеологические течения типа контианства или разных направлений гегельянства и не современные (в основном эмоциональные, лишенные глубокой философско-идеологической основы), а значительно более “серьезные” формы националистических идеологий, взаимодействовавших с разными философскими системами, и анархизм, и все бесчисленные формы социалистических учений.
Сейчас этот период кончился. Критическая работа мысли подорвала, девальвировала такие идеологии, как она раньше подорвала, религиозно-догматические системы. Наступила “постидеологическая”, “постмодернистская” эпоха, совпадающая с укреплением в передовых странах (и распространением во всемирном масштабе) демократий, которым уже не угрожают такие мощные, ярко выраженные псевдорелигиозные идеологические системы, как фашизм или коммунизм. Идеологическая мысль сейчас ослаблена и умирает, и наступает новая эпоха каких-то еще не могущих быть однозначно и ясно определенными способов интеграции личности и общества.
И крайняя слабость нашей идейной жизни 70-80-х годов является, прежде всего, отражением общей слабости идеологической мысли в мире. Если в конце прошлого – начале нынешнего века из более передовых стран Европы в Россию шли многочисленные идеологические импульсы, которые здесь перерабатывались, то в 70-е и 80-е годы ничего подобного не было. Воздействие Запада было грандиозно как пример хорошей жизни, критики коммунизма, утверждения ценности свободы – ценности по сути своей негативной, но не как воздействие каких-либо целостных идеологий, которых уже просто не было. Поэтому-то у нас не было серьезных попыток ни реформировать господствовавшую идеологию, ни создать контридеологию, сравнимых с работой мысли в эпоху начала века. Диссидентство представляло собой критическое, негативное по отношению к господствовавшим идеологии и строю настроение, но оно не вырабатывало никакой философии, “изма”, никакого обещавшего всеобщее счастье проекта общественного устройства, как оно не выработало – что, безусловно, связано с этой его мировоззренческой неопределенностью – устойчивых организационных форм, партий, каких-то ясных методов борьбы, стратегии и тактики.
К этому надо добавить, что мы прошли не только через эпоху идеологий (вместе со всем миром), но и через эпоху господства победившей революционной идеологии, чего не было на Западе и что создает определенный иммунитет по отношению к идеологии и к революции. Будучи революционером по функциям и психологии, наш диссидент не мог быть настоящим идейным революционером, ибо он выступал как раз против строя, основанного на революционной идеологии. Он не мог призывать народ к насильственному свержению строя, поскольку как раз был против строя, установленного таким путем. Он черпал вдохновение скорее в контрреволюционной, чем революционной мысли и, таким образом, не мог быть последовательным в реализации своей функции. (Между прочим, и наш “охранитель” не мог быть настоящим охранителем, ибо он охранял строй, рожденный революцией, что также создавало противоречие между функцией и символикой и мешало “додумыванию до конца”, как аналогичное противоречие у диссидента. Человеку, который по психологии и функции Победоносцев, но вынужден клясться Лениным, так же трудно быть последовательным в своих мыслях, как и тому, кто по психологии и функции ближе к Ленину, но чьими кумирами являются Столыпин или даже тот же Победоносцев.) Поэтому к идеологической “вялости”, связанной с духовным строем современной цивилизации, добавляется и специфическая, характерная для нашей страны вялость, обусловленная противоречием между психологическими стремлениями людей и идейной символикой, в которую могли бы быть облачены эти стремления.
Мы действительно были как бы “вялы” и “трусливы”. Но это вялость и трусость не индивидуальные, а, если так можно выразиться, культурные, идейные[2].
По внутренней “гнилости”, по исчезновению духовного стержня наш строй давно пережил себя, был неизмеримо слабее, чем строй царской России. У господствующей идеологии, можно сказать, не хватало сил на эволюцию, ибо для этого нужна какая-то степень заинтересованности в ней, а идеология стала всем так безразлична, что никому не интересно было ее реформировать. (Создание формул типа “развитого социализма” было в основном чисто словесным упражнением, не затрагивавшим глубоко мыслей и чувств людей, как их затрагивали, например, попытки влить новую жизнь в православие перед революцией 1917 года.)
Строй был фактически лишен легитимности. Его падение, таким образом, должно было стать революционным. Но не было ни революционной идеологии, ни революционеров. Поэтому строю и его элите, строго говоря, ничего не угрожало “извне”, со стороны революционной “контрэлиты” и народных масс, чей социальный протест без организующей и направляющей работы “контрэлиты” не опасен. Может быть, через 30-40 лет ситуация изменилась бы. Однако до этого еще надо было дожить. Ситуацию, когда официальная идеология практически умерла, шансов на ее воскрешение и реформирование нет (строй и его элита делегитимизированы, но контридеологии, контрэлиты тоже нет), лучше всего охарактеризовать словом “застой”. В обществе 70-х – начала 80-х годов, казалось, не было никаких сил и никаких надежд.
Тем не менее, очень скоро начались бурные революционные процессы. Каков же источник этих процессов?
“Перестройка”, создавшая выход из тупика, в котором оказалось общество, совершенно не верившее в свою идеологию и в то же время не имевшее сил ее преобразовать или отринуть, была, естественно, подготовлена предшествующим развитием, хотя и несколько иначе, чем были подготовлены различные либеральные, демократические реформы в прошлой истории (удачные, как английские, или лишь способствовавшие усилению революционного процесса, как созыв Государственной думы в России). Реформы “сверху”, с которых началась наша революция, необъяснимы давлением “снизу”, со стороны контрэлиты революционеров и народных масс. Следовательно, для понимания их источника мы должны разобраться, какие процессы происходили в самом “верху”, в нашей коммунистической элите.
Одной из особенностей нашего строя было то, что процесс конституирования его элиты, ее превращение в некое подобие олигархии шел параллельно ее делегитимации. Строй был основан на революционной, эгалитаристской идеологии, не предполагавшей правящей олигархии, элиты, во всяком случае, такой, чьи деньги и статус передаются по наследству. Для идейного обоснования, легитимации подобной элиты марксистско-ленинская идеология не годится, и пока эта идеология была жива, а в догматической борьбе и сталинском терроре исчезал слой за слоем партийной иерархии, наследственная элита конституироваться не могла. Тем не менее, правящая группа партийных функционеров, несомненно, стремилась обезопасить и упрочить свое положение и передать свой статус детям. В позднесталинский период, когда наиболее идеалистический революционный слой был уже уничтожен и доминировал скорее конформистский и карьеристский тип, такие тенденции в правящей верхушке становятся весьма заметными (это совпадает с тяготением к дореволюционной символике и первыми признаками упадка значения собственно марксистско-ленинской идеологии).
Подобные стремления правящих кругов создали предпосылки для хрущевских реформ. Это видно и из того, что элита поддержала Хрущева, и из того, что, как сейчас стало ясно, его главный противник, превратившийся в антисталинской мифологии в символ зла, – Берия, в общем, тоже хотел десталинизации. При Хрущеве ослабление, “маразмирование” идеологии проявляется все очевиднее. Параллельно происходит дальнейшее становление элиты, представителям которой грозят уже не расстрел и конфискация имущества, а в худшем случае – направление послом в африканскую страну. Хрущевские волюнтаризм, некоторый догматизм, идеализм и страсть к реформаторству, однако, мешали правящей верхушке, и она его убирает.
С приходом к власти Брежнева наступает царство элиты. “Командно-административная” система уступает место власти олигархий, которые не дают собой командовать. Планы, решения все более становятся фикциями, жизнь идет по совсем иным законам. Впервые в громадных масштабах происходит передача денег, статуса, власти следующим поколениям, что окончательно означает конституирование элитарного слоя.
С точки зрения идеологии и формальных принципов строя процесс этот нелегитимен. Коррупция пронизывает в брежневский период все общество сверху донизу. Процесс этот связан с крайней степенью фактической деидеологизации, все масштабы которой выявил последующий период. На деле правящая верхушка (естественно, особенно во втором поколении, образованном, ездившем на Запад) верит в официальную идеологию не больше диссидентов. Различия в идеологии диссидентов и реальной (неформальной, глубинной) идеологии их преследователей, как показали последние годы, ничтожны. Реальные мировоззрения главы грузинского КГБ, затем ЦК Шеварднадзе и диссидента Гамсахурдиа, Горбачева и Солженицына, Яковлева и Сахарова, Кравчука и Чорновила во многом совпадают. И там, и здесь – аморфный, не оформленный в настоящую, целостную идеологию негативизм в отношении догм официальной марксистско-ленинской идеологии, ориентация отчасти на национальное докоммунистическое прошлое, отчасти на Запад – поездки туда становятся важнейшим статусным символом. Различия элиты и диссидентской, недоразвившейся контрэлиты не столько идейные, сколько психологические и моральные.
К чему же стремилась наша фактически полностью не верившая в господствующую идеологию элита?
Любая правящая элита стремится к укреплению своего статусного положения. Наша в ходе эволюции от Сталина к позднему Брежневу добилась в этом отношении очень многого. Но все достижения шли параллельно с упадком идеологии, оправдывавшей социальный строй, в котором эта элита – элита, все они шли вразрез с официальными догмами и принципами, достигались коррумпированным путем. Упрочение положения элиты, таким образом, прямо связано с ее идеологической делегитимацией – и в глазах народа, и в собственных глазах, и в глазах все более значимого для нее Запада. Следовательно, объективной задачей правящего слоя, в добавление к дальнейшему упрочению собственного статусного положения, является его легитимация, превращение (пользуясь аналогией с конвертируемыми и неконвертируемыми деньгами) в “конвертируемое”. Борьба велась как на индивидуальном, так и на семейном уровнях, на протяжении всего брежневского периода.
Это совершается прежде всего путем перевода статусных положений, достигнутых в партийно-советской иерархии, в более легитимные и прочные иерархии, прежде всего интеллигентскую, научную. Едва ли не вся партийная верхушка становится как минимум кандидатами наук. Воровство и взяточничество тоже можно рассматривать как стремление не только к сладкой жизни, но и к прочным, овеществленным статусным символам (деньги везде деньги и вызывают уважение вне зависимости от того, как они добыты). Еще активнее перевод в более легитимные иерархии осуществлялся по отношению ко второму и третьему поколениям. Партработники отнюдь не стремились к тому, чтобы их дети тоже были партработниками. Они старались прежде всего дать им настоящее образование в элитарных школах и вузах, а затем устроить на хорошую, связанную с поездками на Запад научную работу. (Это тяготение партийно-государственной элиты к прочным и престижным интеллигентским статусам порождает определенную ее зависимость от интеллигентской элиты (или интеллигентской части единой элиты), естественно, наиболее свободомыслящей. Отсюда – неуклонная “либерализация” режима).
Но все это лишь “полумеры”, не способные дать реальной легитимации слою в целом. Такую легитимацию может обеспечить лишь нахождение новых идейных оснований и новых механизмов достижения элитарного статусного положения при одновременном его сохранении. По отношению к политической, властной элите в современном мире есть лишь один институт, гарантирующий ее легитимацию, – свободные выборы. Поэтому для полностью утратившего веру в марксизм-ленинизм члена ЦК идеалом было бы стать демократически избранным членом парламента. Но как это сделать? Как произвести идеологическую и институциональную революцию, оставшись у власти?
Разумеется, конкретная форма нашей “перестройки” и ее сроки не были определены предшествующим ей социальным процессом, а связаны с исторической случайностью – личностью М.С.Горбачева, победившего в верхушечной борьбе и взявшего курс на решительные и радикальные реформы. Тем не менее, вся эволюция правящего слоя вела к созданию предпосылок таких реформ. Этому слою становилось все теснее в старых идеологических и институциональных рамках, он все более стремился к новой легитимации своего положения. Поэтому совершенно неверным было бы видеть в Горбачеве одиночку. Его поддержало не только большинство интеллигенции (а ее верхушку никак нельзя отделять от правящей элиты в целом, ядро которой составляла, естественно, партийная номенклатура), но и часть партаппарата. Несмотря на это, размах, серьезность горбачевских реформ все более вызывали страх правящего слоя.
В обществе накопилось немало недовольства, и по мере того, как становилось ясно, что либеральные реформы “всерьез” и исчезала боязнь перед возможными репрессиями, это недовольство все более выходило наружу. Возникло радикальное движение, считавшее Горбачева слишком умеренным. Оно объединилось вокруг немногих диссидентов (Андрей Сахаров, Глеб Якунин и др.) и некоторых представителей статусной интеллигенции с очень крепким и обеспеченным положением, не боявшихся его потерять. Составляли же движение в основном интеллигентские и бюрократические низы, которым и терять-то особенно было нечего. Они выдвигали новых лидеров, стремившихся подняться по внезапно открывшимся новым “лифтам” социальной мобильности.
На выборах народных депутатов СССР, а затем республиканских, представители нового движения активно теснят партийную номенклатуру, и та начинает ощущать, что власть реально может уйти из ее рук.
В противовес этому движению часть элиты предпринимает атаку на Горбачева “справа”, что в конечном счете приводит к августовскому путчу. Такое поведение правящего слоя вполне естественно. Удивительно другое – слабость сопротивления, о чем говорилось выше. Более того, значительная часть элиты постепенно переходит на сторону “демократов”. Начало этому процессу в России положил Б. Ельцин, но постепенно он принял лавинообразную форму. Если посмотреть на состав съезда народных депутатов РСФСР, то мы поймем, что избрание Ельцина было бы невозможно без поддержки солидного слоя бюрократической верхушки. Более того, некоторые группы элиты, в 1989 – 1990 годах оказывавшие сопротивление Горбачеву “справа”, в 1991 году стали критиковать его “слева”. В августе 1991 года, когда часть аппарата попыталась затормозить движение, оказалось, что никто ее не поддержал. Последующая же картина практически “тотального” отхода элиты от прежних идей и символов вообще, очевидно, не имеет аналогий в мировой истории.
1988 – 1991 годы оставляют ощущение какой-то странной имитации борьбы, когда псевдореволюционеры борются с псевдореакционерами. Создается впечатление, что ни искусно лавировавший Горбачев, ни демократы и в мыслях не допускали, что разрушение КПСС и СССР может оказаться таким простым и легким делом, что сопротивление может быть столь “несерьезным”.
Дело в том, что партийная элита и не была “реакционной” в том традиционном смысле, который обычно вкладывается в это слово. Для большинства представителей партийной и государственной верхушки официальная марксистско-ленинская идеология не существовала почти в той же мере, как и для “демократов”. Они могли сопротивляться или, наоборот, “поддаваться”, исходя из соображений сохранения своих статуса, власти, денег, а отнюдь не идейных. Именно подобные соображения, а не “невозможность поступиться принципами” обусловили сопротивление Горбачеву. И они же обусловили затем их капитуляцию перед Ельциным и его окружением.
Продолжение постепенного, эволюционного пути демократизации, который воплощал Горбачев, было для многих представителей элиты чревато, как ни парадоксально звучит, куда большими опасностями, чем “революционный”, связанный с разрушением СССР и ликвидацией КПСС путь, который олицетворял Ельцин. При Горбачеве было действительное противостояние КПСС и “демократов”, СССР и республиканских властей, противостояние, чреватое для бюрократической верхушки массой неудобств – необходимостью выбирать между разными “центрами силы”, опасностью поставить не на ту карту и разоблачениями, неизбежными при реальной политической борьбе, опасностью уже начавшейся бурной политической, социальной мобильности, ибо ситуация подлинной и открытой политической борьбы предполагает психологические качества, не свойственные представителям бюрократической верхушки.
Психологически Горбачев, очевидно, также “не соответствовал моменту”. Ему было присуще ощущение своей особой миссии, грандиозности своей задачи и слишком серьезное отношение к коммунистической идеологической традиции. Без этих качеств он не смог бы начать “перестройку”. Но дальше они стали мешать. Элите надо было поскорей избавиться от пут старой идеологии при сохранении занимаемого положения, и уважение к прошлому, чрезмерная “серьезность” служили ей только помехой.
Между тем как раз ельцинская “революция” 1991 года облегчала ситуацию. Ликвидация КПСС означала устранение всех проблем и опасностей, связанных с выбором между разными политическими силами. Отныне все стали “демократами”. Фактически недолго продолжавшаяся (1989 – 1991 годы) ситуация реальной партийной борьбы кончилась. (Излишне говорить, что современные партии вообще не партии, а скорее “свиты” крупных политических фигур.) Россия в громадной мере вернулась к традиционной для нее ситуации борьбы не партий, а бюрократических “клик” и “кланов” за влияние на центральную власть, олицетворявшуюся когда-то царем, затем – генсеком, теперь – президентом России. И даже эмоциональная, но идейно аморфная борьба на седьмом съезде – разрозненного большинства депутатов с президентским окружением – это скорее огромных размеров бюрократическая склока, чем реальная борьба партий, которую мы могли наблюдать на первых съездах народных депутатов СССР. Разумеется, предстоят новые выборы. Но это еще не скоро (каких-либо досрочных выборов российские депутаты, вероятно, не допустят). И, кроме того, при отсутствии реальной партийной борьбы выборы превращаются в фикцию[3].
Упразднение СССР также означало ликвидацию аналогичных проблем выбора между центром и республиканскими силами, но еще и новые колоссальные возможности для приобретения высоких статусов и выгодных положений – появление, например, множества новых посольств, новых генеральских вакансий, повышение статуса всех республиканских верхушек (ясно, что “президент независимой республики” звучит иначе, чем “председатель Президиума Верховного Совета” республики в составе СССР). Бюрократической верхушке в целом они дали новую легитимацию ее положения, ибо если “секретарь райкома КПСС” в условиях полного неверия в идеологию КПСС – должность, лишенная легитимности, то против “мэра” или “главы администрации” ни у кого не может быть никаких возражений. (Очевидно, в громадной мере этой новообретенной уверенностью в себе бюрократии объясняются современные беды интеллигенции. Раньше ощущавшие свою нелегитимность представители бюрократии в какой-то степени заискивали перед статусной интеллигенцией. Теперь она им не нужна, а для детей верхов открылись новые каналы социальной мобильности, что девальвировало прежнее значение академических НИИ).
Приватизация и рынок, разумеется, страшат правящий слой куда больше, чем его пугала ликвидация КПСС и СССР. Ибо при приватизации, чтобы удержать привилегированное положение, его представителям надо перейти к непривычному для них образу действий, типу работы. Поэтому сопротивление экономическим переменам куда сильнее, чем политическим и тем более, идеологическим. В идеологии и политике произошла революция, в социально-экономической сфере возможна лишь “реформа”.
Однако и приватизация сама по себе так же мало страшит элиту, как не страшат ее свободные выборы сами по себе, если они не лишают ее положения, а укрепляют его. Приватизация под контролем бюрократии может быть для нее лишь источником обогащения и, в конечном счете, перехода в ее руки значительной части приватизируемой собственности, частичного превращения ее в новый буржуазный слой. Поэтому борьба бюрократии с “гайдаризмом” – это, вероятно, прежде всего, борьба за время, необходимое для приспособления к возникающей капиталистической экономике, и за позиции в ней, а не против капитализма как такового. (В этом отношении постоянно звучавшие на последнем съезде заверения о том, что противников реформ нет, что речь идет лишь о разных стратегиях их проведения, на мой взгляд, совершенно искренни и справедливы.) Возможно, современная ситуация постоянного сдерживания рвущихся вперед реформаторов относительно консервативным парламентским большинством и есть идеальная ситуация для бюрократической элиты в целом.
Сведения о процессах в бюрократической элите, о ее трансформации, к сожалению, весьма разрозненны и плохо поддаются обобщениям. Исследования в данной области наверняка раскрыли бы немало нового и интересного. Но я полагаю, что, по-видимому, бюрократическая элита выиграла от наших революционных перемен неизмеримо больше, чем проиграла. (Проиграли немногие, среди них и наиболее порядочные, для кого “перекрашивание” представляло определенную моральную проблему.) Развившись, конституировавшись как элита внутри советского общества, она разорвала сковывавшую ее коммунистическую оболочку, выйдя на свет божий. Ей практически не пришлось делиться властью, ибо и делиться-то было не с кем – всей диссидентской “контрэлиты” было “с гулькин нос”. Гибель коммунизма в СССР была окончательным триумфом бюрократической элиты, завершившим длительный процесс гниения общества, основанного на идеологии, в которую постепенно перестали верить все.
Демократия пришла к нам очень легко и просто, практически без настоящей борьбы за нее. Слава Богу, мы обошлись без гражданской войны. Но в истории, как и в жизни, нельзя получить все сразу. Все имеет свою оборотную сторону. Мы обошлись без гражданской войны. Но потому и обошлись, что имели предельно “вялую” идейную жизнь, вращавшуюся вокруг антикоммунизма, который, как выяснилось, в огромной степени разделяла и сама коммунистическая элита, потому что в нашем обществе не нашлось достаточного числа честных и убежденных людей, которые могли бы образовать “контрэлиту” революционеров, потому что практически вся наша в громадной мере коррумпированная (она и складывалась в процессе коррупции) коммунистическая элита стала “демократической”. Наша демократия, возможно, прочна. Но эта прочность прямо связана с тем, что старой “номенклатуре” от нее никакой серьезной угрозы не исходит. Это очень своеобразная прочность, прочность слабости, а не силы. Мы обладаем в настоящее время большей свободой слова. Но именно сейчас нам нечего сказать, ибо вся наша духовная жизнь предшествующих лет определялась антикоммунизмом, и теперь, когда враг исчез, возникает поразительная пустота, не снившаяся ни в какие “застойные” годы, которые сейчас кажутся чуть ли не эпохой духовного расцвета.
Сказанное не означает, что демократия – это плохо. Демократия – норма современного мира, к которой мы не могли не стремиться и которой, в конце концов, не могли не достичь. И в какой бы несовершенной форме и каким бы “грязным” путем мы к этому ни пришли, то, чего мы все же добились, – великое благо. Пути назад, к коммунизму, у нас нет. И если то, что написано выше, в какой-то мере истина, значит, самое трудное – впереди.
Впереди – задача превращения формальной демократии, являющейся прикрытием власти все той же бюрократической элиты, в демократию реальную. Прежде всего, это – расширение каналов социальной мобильности, позволяющих подняться “наверх” людям из низов – через интеллигентские профессии, честную предпринимательскую деятельность, реальные демократические выборы (их у нас еще не было, ибо все предшествовавшие осуществлялись не в рамках демократии, а были скорее символическими актами отторжения коммунизма). Пока что эти каналы у нас в громадной мере “забиты” коррупционными мафиозно-олигархическими связями. И я думаю, что за последние годы возможностей честным путем подняться по социальной лестнице больше не стало. Это сложнейшая политическая и социальная задача, поскольку в реализации ее не заинтересован правящий слой, который будет делать все возможное для своего самосохранения.
Но это еще и сложнейшая идейная, духовная задача. Демократия, то есть свобода слова, печати и т.д., должна быть насыщена неким позитивным (и разным, альтернативным) духовным содержанием. Свобода – это условие для утверждения каких-то позитивных ценностей. Человек, у которого заткнут рот, мечтает вырвать кляп. Но когда он освободился от него – что он скажет? Найдется ли у него вообще что сказать? Демократия может быть реальной лишь при ее реальном духовном наполнении. При этом мы не можем искать такого наполнения в прошлом или конструировать его по старым образцам, создавая нечто вроде нового марксизма. Эпоха господства идеологий кончилась. Новое духовное насыщение демократии должно быть чем-то принципиально иным. Впереди – действительно творческий процесс, движение к исторически неведомому.
Достигнуть формальной демократии оказалось до смешного просто. Сделать же ее реальной, наполнить ее каким-то человеческим содержанием будет неизмеримо сложнее.
[1] Межнациональные конфликты – следствие стремительного распада государства, но не собственно революционные конфликты. Это конфликты этнических образований и их элит друг с другом, а не конфликты внутри отдельных обществ, народа с элитой.
[2] Еще одним фактором, ослаблявшим наше диссидентское движение, который тоже нельзя сбрасывать со счета, было разлагающее влияние поддержки диссидентства Западом. Представим себе, как изменилась бы психология Ленина и Троцкого, если бы их революционная деятельность принесла им в эмиграции значительный доход.
[3] В этом отношение “внесистемная” оппозиция в лице коммунистов и ультраправых. скорее на руку правящей влите, ибо страх народа перед возвращением методов прошлых времен может заставить в целом все более политически апатичных людей ‘прийти к урнам и проголосовать за кого-либо из представителей нынешнего истеблишмента. Если же возникнет опасность реальной потери контроля, всегда есть возможность выборы вообще не проводить.



