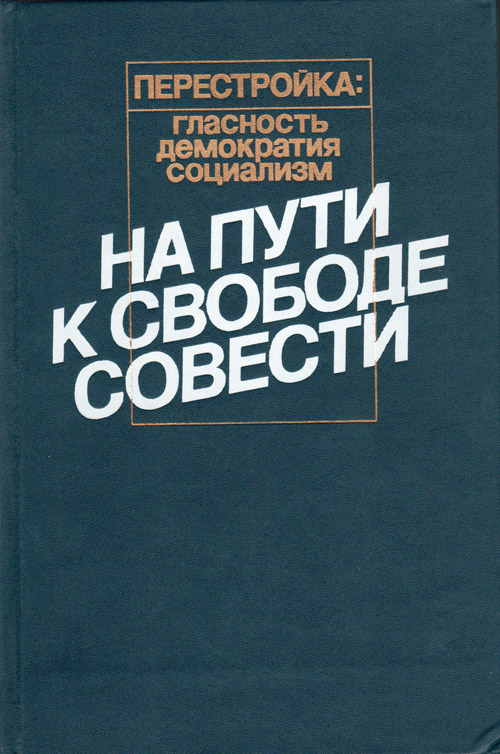 НА ПУТИ К СВОБОДЕ СОВЕСТИ
НА ПУТИ К СВОБОДЕ СОВЕСТИ
Религия, атеизм и престройка
Издательство: Москва ПРОГРЕСС 1989
Серия: ПЕРЕСТРОЙКА: ГЛАСНОСТЬ ДЕМОКРАТИЯ СОЦИАЛИЗМ
Одно из важнейших отличий нашей перестройки от хрущевских реформ или неудачной попытки экономической реформы второй половины 60-х годов заключается в том, что ее лидеры и масса поддерживающих их людей поняли взаимосвязь всех сторон жизни нашего общества и невозможность реформировать в нем что-то одно, не реформируя все. Мы не сможем достичь «приличного» для современного мира уровня жизни, не достигнув «приличного», нормального в современном мире образа жизни. Один из элементов этого образа жизни — реальное отделение религии и церкви от государства, отсутствие какой-либо дискриминации по признаку принадлежности к религии. Такой принцип отношений
между религией и государством, возникнув на заре новой истории, стал сейчас нормой современного мира, непризнаваемой лишь в немногих странах, еще не полностью вышедших из средневековья. И то, что положение это не только было провозглашено нами изначально, но и вошло, наряду с другими демократическими принципами, даже в сталинскую Конституцию, говорит о его нормативном характере, о том, что его можно не реализовывать, но нельзя отрицать, как можно не выполнять, но нельзя отрицать моральные нормы. Но расстояние от признания этого положения до его реализации — не меньшее, чем от признания, что врать нехорошо, до — честности. Что же мешает реализации этого принципа? Дело, разумеется, не только в законах, регулирующих данную сферу, которые сейчас пересматриваются. Дело во всем строе нашей жизни, ибо не может быть отделения церкви от государства, пока у нас вообще еще ничего не отделено от государства, пока церковь не может без разрешения государственных органов, например, создать свою газету даже не в силу какого-то особого запрета, а просто потому, что у нас никто самовольно издавать своей газеты не может; не может быть отделения церкви от государства, пока у нас во главе гражданской власти обязательно, «по определению», должны стоять атеисты и т.д. Но в конечном счете дело и не только в строе нашей общественной жизни, ибо сам этот строй со свойственными ему взаимоотношениями атеизма и религии возник не случайно. Он возник из нашего дореволюционного прошлого, в котором тоже никакого отделения церкви от государства не было и быть не могло, для которого принудительная религиозность была также имманентна, как нашей современности
7
имманентен принудительный атеизм. Поэтому для утверждения действительной свободы совести и отделения религии и церкви от государства нам нужно изменить нечто большее, чем организацию нашей социально-политической жизни, — нужно изменить и глубоко укорененный характер наших мыслей и чувств, а менять характер — это самое сложное, значительно сложнее, чем изменить взгляды или внешний образ жизни.
* * *
Наверное, ни в одной другой сфере репрессивная сущность царистского режима не проявлялась с такой силой, как в сфере религиозной. Православие было основным идеологическим символом самодержавия и основным источником его легитимации. Знаменитая триединая уваровская формула подразумевала, что православие — вера русского народа, самодержавие — его «естественное» политическое устройство и все эти три компонента — русский народ, русская вера и русское самодержавие — находятся в неразрывном единстве. Незыблемость самодержавия и незыблемость веры неотделимы, причем незыблемость веры — как бы моральное основание незыблемости самодержавия, его высшая религиозная санкция. Естественно, что никакого разговора об отделении церкви от государства здесь быть не могло — Россия была страной едва ли не с самой «неотделенной» от государства церковью в Европе.
В обществе осуществлялось постоянное и «планомерное» ограничение прав и преследование иноверцев — «раскольников», сектантов протестантских толков, которых особенно боялись из-за их успешной пропаганды, униатов, которых заставляли переходить в православие, евреев, которые были загнаны в Черту оседлости. Даже для нашего привыкшего ко всему сознания приводимые в статье А.Руденко тексты резолюции Совещания православных деятелей 1891 г. звучат жутковато.
Но за свое тотальное господство в обществе церковь платила таким же тотальным подчинением государству, которое боялось способной подорвать единство самодержавия и православия самостоятельной церкви не меньше, чем оно боялось «сектантов», подрывающих единство русского, самодержавного и православного. Страх ересей доходил до совершенно патологических размеров — до посылки уже перед самой революцией войск на Афон для искоренения возникшей среди монахов «ереси» имяславцев.
Результат этого был естествен и закономерен. Тоталитаризм формального православия ставил непреодолимую плотину на пути религиозной мысли, и как поток, на пути которого—плотина, может изменить направление и начать течь в противоположном направлении, так и мысль и чувства русских людей устремились по направлению вообще не
8
религиозному, атеистическому. В царской России этот путь был, пожалуй, более прост и естествен, чем путь религиозных исканий и реформ. Если вы, страшась ересей, не даете народу Библию на русском языке, вы добиваетесь только одного — что религия для народа будет просто набором обрядов, смысл которых непонятен и о которых легко сказать, что никакого смысла в них нет. Если вы арестовываете крестьян, пытающихся самостоятельно изучать евангельские тексты, вы не добьетесь того, что они действительно станут православными, вы добьетесь только того, что религия им может стать вообще безразлична. Необходимость официального утверждения текста проповедей во избежание проникновения в них религиозной или политической ереси могла привести и приводила лишь к отсутствию какой-либо реальной проповеди вообще. Стареющая тоталитарная система может справляться с ересями, но она не может справляться со все усиливающимися равнодушием и отвращением. Тоталитаризм формального православия сам подготовил бескомпромиссный, ожесточенный атеизм, атеистический тоталитаризм*, который формировался в «недрах» самодержавного общества, «под носом» и у официальной церкви, и у царской охранки, как это описано в «Бесах» Ф.М.Достоевского.
И хотя в предреволюционные годы ситуация начала меняться — в православной церкви появились силы, понимающие, что положение ее как придатка самодержавия ведет к ее гибели, а в интеллигенции возникло все усиливающееся религиозное течение, — все это было уже слишком поздно, как слишком поздны были и вынужденные уступки самодержавия.
Революция лишь вывела на свет, актуализировала то, что сложилось внутри царского тоталитарного общества, — его тотальное отрицание.
* * *
Относительная религиозная свобода существовала у нас очень недолгое время — с 1905 до 1917 г. и затем с 1917 до конца 20-х годов. С 1905 по 1917 г. это была частичная, неполная и постоянно урезывае-
* Происходило это не только в русской среде, ибо русская культура оказала колоссальное влияние на другие народы империи. Когда-нибудь будет изучена и раскрыта очень интересная и важная тема: влияние особенностей нашей духовной и политической ситуации на духовное развитие другого народа, сыгравшего колоссальную роль в нашей революции, — живших в России евреев. Ни в одной европейской стране они не подвергались таким ограничениям и преследованиям, ни в одной стране они не были загнаны в Черту оседлости, в которой искусственно поддерживалась формальная иуда-истская ортодоксия, подобно тому как в русском народе поддерживалось формальное православие. И ни в одной стране в еврейской среде не развились до такой степени революционно-атеистические идеологии. В еврейских ешивах ученики вместо Талмуда тайком читали Писарева и Чернышевского, который сам был сыном русского священника. Затем эти ученики встанут в ряды нашего «воинствующего атеизма», разрушающего и церкви и синагоги — в таких причудливых формах устанавливались связи между русской и еврейской культурами.
9
мая свобода для неправославных вероисповеданий при сохранении официального характера православия, — свобода, которая, как и все свободы этого периода, была дана самодержавием под давлением, нехотя, в надежде на то, что ее можно будет при благоприятных обстоятельствах отнять. В 1917 г. в России впервые была провозглашена свобода совести и отделение церкви от государства, и для преследуемых ранее «сектантов» наступило «золотое десятилетие». Но церковь большинства русского народа — православная — подверглась разгрому, а в 1929—1930 гг. окончательному разгрому подверглось все.
В чем причина этого разгрома? Разумеется, не в контрреволюционной позиции, занятой, что совершенно естественно, частью православной иерархии, — если бы это было так, то по мере ослабления угрозы контрреволюции положение церкви улучшалось бы, между тем происходило нечто противоположное. Дело в другом.
Длительное пребывание в самодержавно-православном монолите могло привести к тотальному отрицанию самодержавия и религии, но оно не могло выработать терпимости и правосознания, оно сформировало тот характер, изменить который труднее, чем изменить мировоззрение. При этом тонкий элитарный интеллигентский слой, в котором постепенно формировался новый характер, где действительно постепенно возникала терпимость, был сметен революцией. Снизу поднялись социальные слои с глубоко архаичным сознанием, которые могли воспринять новую революционную идеологию лишь в квазирелигиозной и догматической форме. Пока в партии лидировал узкий слой революционеров-интеллигентов, еще сохранялась какая-то мировоззренческая терпимость, но этот слой был расколот внутренними распрями и сметен поднявшейся снизу волной. Сознание миллионов новообращенных «марксистов» также не могло допустить, что действуют церкви, в которых открыто пропагандируется «реакционная идеология», как более полутора тысяч лет назад сознание христиан, пришедших к власти в Римской империи, не могло допустить, что в языческих храмах продолжается «служение демонам». Это глубоко догматическое сознание требовало как можно скорейшего и полнейшего единообразия — единой догмы, единого вождя, единого плана. Сталин был выразителем духа и воли этих людей, и к 1930 г. он окончательно привел страну к тому единообразию, которое должно было означать социализм. При этом то, что пережили духовенство и верующие, не поддается описанию — гонение таких масштабов церковь не переживала, наверное, со времен Диоклетиана.
Однако религия все-таки не была уничтожена полностью — не из-за доброй воли атеистического руководства, а скорее из-за страха, что полная ликвидация религии официальной и подконтрольной может привести к возникновению каких-либо неподконтрольных движений (что в какой-то мере и происходило — возникли, например, «истинноправославные христиане»). Религия была поставлена в почти невыносимые условия, загнана в своего рода гетто, над которым были установлены постоянное наблюдение и полный контроль, но сохранялась, и, естественно, сохранилась возможность ее возрождения,
* * *
Первым шагом к этому возрождению явилось резкое изменение сталинской политики в отношении религии в 1943 г. В чем причины этого изменения? В какой-то мере, возможно, здесь действовал страх перед немецкой политикой на оккупированных территориях, когда гитлеровцы открывали закрытые нами церкви, и стремление приобрести благоприятный «имидж» у союзников. Но есть, несомненно, и значительно более глубокие причины, коренящиеся в эволюции нашего общества и нашей идеологии.
Наша революция была связана с грандиозными «эсхатологическими» ожиданиями народа, верящего в то, что она приведет к «земному раю». Именно эта вера дала людям силы победить в гражданской войне, именно она побуждала их переносить немыслимые тяготы «строительства социализма», и именно она мешала всем попыткам установления какой-либо терпимости и правопорядка. Но хотя социализм вроде бы был построен, никакого земного рая явно не наступило. «Эсхатологические» ожидания переносятся на коммунизм. Но постоянное отодвижение вперед «земного рая», очевидно, начинает не срабатывать. Слишком велик разрыв между ожиданиями, которые связывались с социализмом, и его реальностью. Возникает потребность найти какие-то новые идеологические подпорки. И найти их нетрудно. Мы не построили земного рая, но зато мы при враждебном окружении создали мощное государство в рамках старой Российской империи с преобладанием русского населения. Естественной идеологической «подпоркой» в этой ситуации оказываются русский национализм и культ государственности, все более нарастающие в нашей идеологической жизни на протяжении 30-х годов. Ясно, что война еще более усилила эту идеологическую тенденцию.
Смещение акцентов с «эсхатологии» на национализм и культ государственности имеет и другое основание. «Эсхатология» не только все меньше «срабатывает» в отношении народа, но она все меньше нужна и постепенно формирующемуся господствующему слою, который более или менее доволен своим положением и стремится скорее к его стабилизации, чем к переменам. Этот слой, как это делали все слои «нуворишей», начинает подражать старым господствующим классам, его прельщает внешняя атрибутика «старого режима» — всевозможные золотые погоны и псевдоклассицистская архитектура.
Наконец, необходимо учитывать гибель в концлагерях людей, наиболее искренне и глубоко верящих в марксизм, и выдвижение многих представителей той части старой интеллигенции, которая увиде-
11
ла в сталинском режиме естественное продолжение самодержавия, возвращение к норме после «великой русской смуты».
Все это привело к довольно резкому изменению положения религии, прежде всего — православия, но «заодно» — и других религий. В новой идеологической ситуации церковь становится символом преемственности сталинского режима и старой России (наряду с Академией художеств, золотыми погонами, званиями генералов и т.д.) и дополнительным источником сталинской легитимации. Руководство церкви осыпается орденами, оно становится непременным участником всех кремлевских торжеств и начинает усиленно «бороться за мир» на заграничных конференциях. Но, разумеется, это улучшение положения церкви не имеет никакого отношения к отделению церкви от государства. Напротив, государственный контроль над церковью становится едва ли не абсолютным, и церковь вновь оказывается своего рода «придатком», только не старого, православного, а нового, атеистического самодержавия. Недавно еще сидевшие в концлагерях представители церкви начинают славословить Сталина. Насколько эти славословия были искренними, сказать трудно, но, очевидно, все-таки в значительной мере — искренними. Дело в том, что, как и в целом в нашем обществе, в сталинское время происходит своеобразная «архаизация» и в церкви. Наиболее интеллектуально сильные, независимые и стремящиеся к независимой позиции церкви люди были уничтожены или пребывали в эмиграции (как были уничтожены или пребывали в эмиграции и наиболее интеллектуально сильные и независимые представители левой, марксистской мысли). Скорее могли уцелеть представители архаического «обрядоверия», ностальгически вспоминавшие «доброе старое время» государственной церкви и увидевшие в политике Сталина долгожданное возвращение к норме. Тем более что в некоторых аспектах церковной и национальной политики после войны преемственность была поразительная — была насильственно ликвидирована украинская униатская (греко-католическая) церковь, возродился антисемитизм (вплоть до планов создания новой Черты оседлости — где-нибудь в Сибири). Сталин опирается в церкви именно на такие элементы, и не случайно, что изменение положения церкви в 1943 г. совпадает с окончательной ликвидацией им ранее искусственно поддерживавшегося «живоцерковного движения».
* * *
Сталинский тоталитаризм приносит в 40-е годы значительное улучшение положения церкви. Хрущевская либерализация, наоборот, приносит новые гонения. Очевидно, Хрущев действительно считал, что он приведет страну к коммунизму, а для этого надо подготовить сознание народа, избавив его от религиозных пережитков. Кроме того, возможно, сталинский «либерализм» в отношении церкви
12
олицетворял для Хрущева отступление Сталина от марксизма. Но так или иначе, гонение (правда, не кровавое, как сталинское) было, хотя и относительно быстро выдохлось, снова оставив за собой измученные и терроризированные церкви и громадную бюрократическую систему атеистической пропаганды. (При этом реальное сопротивление гонению оказали лишь баптисты, с их наиболее демократической организационной структурой, более «индивидуалистическим» духом и традицией независимости.)
События развивались как будто специально так, чтобы усилить в православной церкви ностальгически реакционные и антилиберальные тенденции. В самом деле, церковь падает после революции, в какой-то мере поднимается на самом пике сталинского тоталитаризма и национализма и вновь переживает гонение при хрущевской либерализации. При этом не прекращается жесткий и грубый контроль со стороны государственной атеистической бюрократии, оскорбительная зависимость от нее и необходимость просто во имя самосохранения унижаться перед ней. Надо обладать необычайными умом и душевными качествами, чтобы не поддаться искушению связывать все плохое с революцией, марксизмом и масонами, а все хорошее — с самодержавием и частичной «реставрацией» самодержавных порядков при Сталине. И если сейчас церковь не включается активно в развернувшуюся критику сталинизма — это более чем естественно (исходя из всего ее исторического опыта), и, напротив, поразительно, что в ней раздаются (и в «низах» и в «верхах») и искренне «перестроечные» голоса.
* * *
Ситуация, складывающаяся в 70-е годы, очень своеобразна и даже в чем-то комична. Если представить официальный атеизм и церковь как две сражающиеся друг с другом армии, то можно сказать, что одна из этих армий, атеистическая, пользуется немыслимыми в «нормальной» войне правами — она, например, может определять, кто будет командовать армией противника и сколько боеприпасов он может использовать. И тем не менее именно эта армия все более проигрывает.
Если в конце 50-х — в 60-е годы хрущевская либерализация в какой-то мере оживила веру в идеалы революции, то 70-е годы стали годами крайнего разочарования интеллигенции в официальных лозунгах, когда какие-либо надежды на перемены к лучшему были утрачены. Между тем церковь — фактически единственная легальная организация с неофициальной и более того — противоположной официальной идеологией, которая относительно безопасна (тем более что ее совершенно не обязательно демонстрировать). В этой ситуации движение к церкви и религии становится совершенно естественным — так же, как до революции было совершенно естественным движение к атеизму. В интеллигентских кругах распространяются са-
13
мые разные религии — вновь появляются русские католики, среди евреев распространяются разные формы иудаистской ортодоксии, широким потоком идет оккультистская литература всех сортов и видов, возникают кришнаиты, дзэн-буддисты и т.д. Но поскольку в основе этого движения все же отталкивание от настоящего и романтизация национального прошлого, наиболее выигрывает от него православие, куда переходит множество видных представителей интеллигенции (так же, как в республиках с иной национальной религиозной традицией наиболее выигрывают эти национальные религии). Атеизм же в определенных интеллигентских кругах становится просто чем-то неприличным — как до революции в передовых интеллигентских кругах «неприличной» была религиозность.
И если до революции у нас в интеллигенции было мощное атеистическое крыло, а в народе господствовало формальное православие, то теперь ситуация становится противоположной. Традиционная религиозность необразованных старых людей постепенно отходит в прошлое, вместе с естественным уходом этого поколения, но средних лет и молодые рабочие, служащие и колхозники почти на 100% атеисты (естественно, что атеизм этот во многом связан просто с отсутствием какой-либо информации о религии и обладает зачастую таким же «предрассудочным» характером, каким обладало массовое дореволюционное православие). Зато в интеллигенции все более растет религиозное крыло. И это прослеживается даже статистически. Вот, например, очень интересные данные опроса, проведенного недавно в Москве американскими социологами и нашим Институтом социальных исследований:
| Верующие в Бога | Неверующие | Верующие взагробнуюжизнь |
Лица, в жизни которых религия ифает важную роль |
|
| Всего москвичей | 10% | 43% | 7% |
13% |
| до 30 лет | 11% | 45% | 6% |
9% |
| 30—44 г. | 8% | 47% | 5% |
10% |
| 45—60 лет | 9% | 43% | 8% |
11% |
| старше 60 | 13% | 38% | 10% |
22% |
| Мужчины | 5% | 58% | 4% |
8% |
| Женщины | 13% | 32% | 9% |
17% |
| Рабочие | 9% | 42% | 6% |
12% |
| «Синие воротнички» | 4% | 55% | 4% |
5% |
| Лица умственного труда | 9% | 37% | 10% |
21% |
| «Белые воротнички» | 11% | 41% | 7% |
13% |
Эти данные говорят как о сохраняющемся преобладании традиционной религиозности (пожилые женщины, церковные «бабушки»),
14
так и о сильных позициях религиозности нового типа, возникающих в среде молодой интеллигенции*.
Трудно сказать, к чему привел бы этот процесс, продлись «застой» года этак до двухтысячного. Мне кажется, что в нашем теперешнем интеллигентском религиозном движении есть та же двойственность, какая была в дореволюционном движении к атеизму. С одной стороны, это — движение от принудительно навязываемого мировоззрения к свободе. Но в нем есть и другая сторона. В нем есть и элемент движения от одной жесткой и нетерпимой идеологии к другой, зачастую тоже жесткой и нетерпимой. И думается, что чем дальше длился бы «застой», тем больше логика вещей способствовала бы росту именно этого направления, которое могло бы со временем объединиться с протестом «низших слоев» в единое реакционно-«романти-ческое» идейно-политическое движение (вполне возможно, что «Память» — это преждевременный, неудачный и, скорее всего, «абортивный» плод этой тенденции). И если бы тенденция эта, не дай Бог, победила, свобода совести не пришла бы к нам и в 2000 году.
* * *
Ни движение от религии к атеизму в конце прошлого — первой трети нашего веков, ни обратное движение, происходившее у нас в 70-е — начале 80-х годов (и очевидно, сейчас еще не закончившееся) — это не движения к свободе совести. Движение к свободе совести — это то изменение сознания, которое совершается «сквозь» эти маятникообразные движения и ведет к тому, что и религия и атеизм становятся терпимыми, способными спокойно сосуществовать друг с другом. Какие же факторы способствуют этому движению?
Прежде всего, это громадный рост образования общества. Научные знания и научное сознание, постепенно распространяющиеся в обществе, подрывают как религиозный, так и квазирелигиозный «атеистический» догматизм. Между тем рост образования у нас колоссальный (тот же американо-советский опрос в Москве показал немыслимую цифру — 43% лиц с высшим и незаконченным высшим образованием среди опрошенных). Интеллигенция, еще недавно страдавшая своей «оторванностью от народа», сама превратилась в
* Результатом наличия этих двух типов религиозности является очень своеобразный социальный состав православных верующих — значительная масса старых и необразованных людей, в основном женщин, и все более заметная группа молодых интеллектуалов, при почти полном отсутствии «центра» — рабочих, инженеров, техников. В этом отношении диаметральную противоположность православию являет баптизм — религия, не имеющая ни корней в национальной традиции, ни специфической экзотичности восточных религий и почти не «выигравшая» от религиозного интеллигентского движения 70-х годов. Здесь почти нет «интеллектуалов» (хотя сейчас вроде бы они появляются) и почти нет совсем «темной» массы старых людей. Зато инженеры и техники доминируют.
15
п
многомиллионный, бурно растущий массовый слой. Но интеллигенция — слой по самой своей сути, по своему роду занятий творческий. Именно поэтому из ее среды всегда исходили разного рода нетерпимые тоталитарные идеологии, и именно поэтому сама она с трудом поддается тоталитарной дисциплине, которая устанавливается только тогда, когда эта идеология овладевает массами, причем интеллигенция становится первой жертвой таких идеологий. Поэтому для интеллигенции свобода совести — наиболее естественное состояние, которое является условием ее труда, творчества. Наоборот, удельный вес наиболее «темной» массы с архаичным сознанием у нас стал неизмеримо меньше по сравнению с дореволюционным временем.
Основные идеологии нашего общества, видоизменяясь в соответствии с социальной эволюцией и эволюцией массового сознания, постепенно приобретают новые черты. Наш атеистический марксизм, прошедший через разоблачение культа личности Сталина и сейчас проходящий через горнило нашей перестройки, — это уже совсем не та идеология, под знаменем которой в 20 — 30-е годы «воинствующие безбожники» разрушали церкви и преследовали верующих. Но и религия у нас уже иная. Наши церкви — и сами, и через своих западных собратий — вошли во всемирный экуменический процесс, и, какие бы болезненные тенденции ни таились в нашем религиозном сознании, современное православие, католицизм, уже не говоря о протестантских церквах, ведущие активные экуменические диалоги, в принципе не могут уже стать такими же нетерпимыми, какой была дореволюционная православная церковь.
К терпимости, к свободе совести подталкивают нас и внутренние факторы, связанные с эволюцией нашего общества, и факторы внешние, международные. Мир находится под угрозой ядерной войны и экологической катастрофы. В таком мире терпимость, примат общечеловеческих ценностей, провозглашенных нашей доктриной «нового мышления», — императив, необходимое условие выживания. Но «новое мышление» на международной арене предполагает и «новое мышление» внутри нашей страны, сосуществование и сотрудничество в решении глобальных проблем с католиками и мусульманами, социалистами и либералами, предполагает такое же сотрудничество людей разных мировоззрений в решении наших внутренних проблем. Кроме того, мир становится все более «тесным», информация проникает отовсюду, и это также делает сознание более «открытым»*.
* Одно из проявлений этого «сжатия» мира — начинающееся у нас распространение восточных религий. При всей гротескности проявлений этого процесса он представляется очень важным и в конечном счете необратимым. Это то же самое, что распространение христианства в Азии или все больший удельный вес коренных американцев в американском православии. Информация о религиях все более становится общедоступной, выходя за пределы их традиционных географических и культурных ареалов, и связь религии с этносом постепенно ослабевает во всем мире.
16
Наконец, очень важно и то, что свобода совести у нас хотя и не была реализована, но была провозглашена. И как все пусть нереализованные, но все же провозглашенные принципы, она проникла в сознание, ее никто не решится отрицать.
Все это — объективные факторы, способствующие нашему движению к свободе совести. Эти факторы постепенно меняют наше сознание, расшатывают воспитанные всем нашим прошлым (и дореволюционным и послереволюционным) привычки к идейному единообразию, одной жесткой догматической истине. Они не только трансформируют наши теперешние отношения, но и препятствуют тому, чтобы в будущем возникли какая-то новая нетерпимость и новый догматизм. Но есть и важнейший субъективный фактор — то, что перестройка началась тогда, когда, очевидно, еще не поздно: не в 2000 г., а в 1985-м, когда наш кризис не зашел еще так далеко, чтобы сложились новые сильные альтернативные идейные системы, несущие заряд нетерпимости.
Новые законы, предоставляющие большие права религиозным организациям, будут приняты. Это сомнений не вызывает. Сомнений не вызывает и то, что постепенно меняется вся структура нашего общества, без изменения которой новое законодательство было бы чужеродным элементом и не могло бы быть эффективным.
Но, как мы уже говорили, главное — не законы, главное — «привычки мыслей и чувств», которые порождают законы и сводят на нет противоречащие им законы. Искоренить такие привычки очень трудно. Поэтому перестройка, постепенно ведущая к реальной свободе совести, — большой психологический, идейный и институциональный кризис. Это — кризис для тех административных и партийных работников, которые привыкли свысока относиться к верующим и не представляют себе, что священник может стоять перед ними не навытяжку; кризис для профессионалов-атеистов, которые писали и говорили о религии что угодно без опасения, что им возразят; кризис для церквей, руководство которых пришло к власти в годы «застоя» (или начало карьеру еще при Сталине) и в которых сложились идеально соответствующие «застою», но мало пригодные в новых условиях организационные структуры. Наконец, это кризис для того значительного слоя религиозной интеллигенции, которая была глубоко убеждена, что от атеистов в принципе ничего хорошего ждать нельзя.
Теперь о пути, который может облегчить этот кризис, облегчить «роды» свободной совести. В самом начале нашей перестройки очень громко прозвучало слово «покаяние». Слово это — очень сильное и правильное, но интерпретировать его можно тем не менее по-разному. Есть и такая форма покаяния, как «грешить и каяться, снова грешить и снова каяться». В нашем обществе есть две основные идейные силы — атеистическая (она же прогрессистская, интернационалистская, марксистская, «левая») и религиозная, устремленная
17
к прошлому и к национальным корням и традициям («правая»). И обеим есть в чем каяться, ибо они неотделимы друг от друга, грехи и преступления каждой из них обусловлены грехами и преступлениями другой, и если искать источник наших бед по принципу «кто первый начал», то нам придется уйти в «дурную бесконечность». Поубивали людей, наверное, больше под знаменем атеизма, но, в конце концов, атеизм этот возник после 900 с лишним лет господства православия и «христианского воспитания» народа. Выяснять, кто виноват больше, — задача бессмысленная. Каяться надо каждой из двух сторон в своих грехах.
Путь взаимного покаяния не только наиболее безупречен морально, но и наиболее «выгоден». Ибо нам все равно придется сосуществовать друг с другом. Об этом говорит и весь наш исторический опыт, и просто здравый смысл. В современном обществе просто не может не быть и устремления в будущее, и мечты о том, что оно будет прекрасно, и ностальгии по прошлому, стремления удержать из него максимум ценного; и атеистического неверия и «полагания на собственные силы», и религиозных поисков опоры в потустороннем; и интернационализма, и ощущения особой ценности своего собственного народа. Если одно из этих устремлений попытается подавить другое, обязательно возникнет реакция — она придет незаметно с самой неожиданной стороны, оттуда, откуда вроде бы меньше всего можно было ожидать опасности, — от детей русских священников, становящихся страстными атеистами и революционерами, и от детей партработников, прошедших через всю систему атеистического воспитания, которые обращаются к Богу. И эта реакция будет тем более страшной, чем больше ты подавлял и «топтал» поверженного противника.
Свобода совести, свобода и веры и неверия — лучшая гарантия от таких реакций. Свобода для других — лучшая гарантия твоей собственной свободы.
Но путь взаимного покаяния — не только путь, который подсказывает совесть, и не только путь самый выгодный, но в конечном счете — это путь единственно возможный. Ибо терпимость (и следовательно, раскаяние в прошлой нетерпимости) — это просто единственный путь выживания современного человечества. Поэтому в конечном счете альтернативы свободе совести нет.



