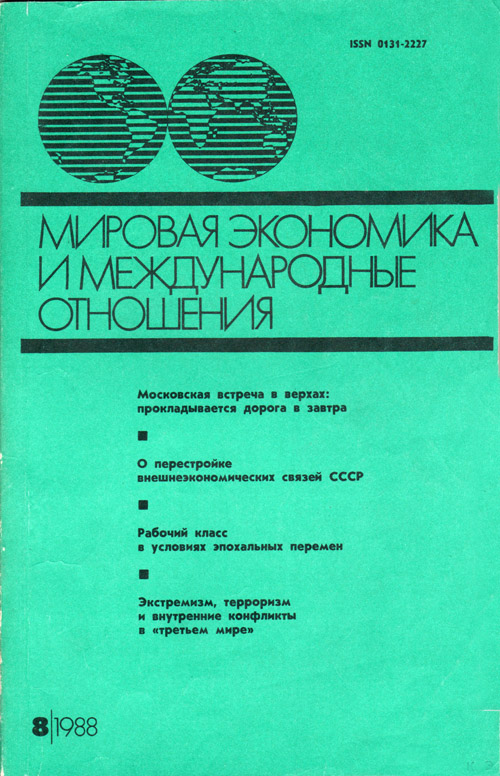 ИНДИЯ И КИТАЙ: ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ- ДВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ИНДИЯ И КИТАЙ: ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ- ДВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
Круглый стол «МЭ и МО»
ОКОНЧАНИЕ 8 1988 PDFфайлВ. Хорос: Леонид Сергеевич, как следует понимать Ваш вывод о накапливании в развивающемся мире элементов еврокапиталистической структуры с точки зрения перспектив? Иными словами, идет ли этот мир к капитализму европейского типа?
Л. Васильев: Совершенно очевидно, что о капитализме европейского типа речь пока не идет, как не может идти речь и о достижении всем миром уровня развития, свойственного наиболее развитым странам. Соответствующего потребления ресурсов на душу населения Земля просто не в состоянии обеспечить, как не может выдержать она и количества отбросов на ту же душу — и это не беря в расчет быстрый рост мирового населения в результате демографического взрыва, происходящего опять-таки в развивающихся странах.
Сохранение господства традиционной структуры, обремененной современными экономическими, демографическими, экологическими и иными проблемами, даже при условии накопления в ней элементов нового качества не может не сказываться на темпах и характере ее развития, особенно в сравнении с развитыми странами. При этом многое зависит от того, в рамках какой цивилизации исторически сложилось и существует то или иное общество. Индия с ее кастами — здесь я согласен с Леонидом Борисовичем Алаевым — подвержена опасностям внутренних взрывов в наименьшей степени, потому что кастовые ограничения искусственно консервируют на низком уровне потребление подавляющего большинства населения. Это же частично относится и к странам буддийской культуры, где религиозная норма далека от культивирования потребностей. Но вот в странах исламского мира, как и в Латинской Америке, потребности растут заметно быстрее возможностей их удовлетворения. Результат во многих случаях выражается в астрономической сумме долга (правда, в мусульманских странах он не так велик, как в латиноамериканских, ибо частично компенсируется нефтедолларами). Но дело не только в задолженности.
Если Индия и страны буддийской культуры в силу их традиционной рели-гиозно-цивилизационной ориентации и обусловленного этим занижения потребностей массы населения сравнительно стабильны в социально-политическом плане, то иное положение существует в мире ислама и в Латинской Америке, где социальная напряженность и политическая нестабильность очевидны и с течением времени явно нарастают. Дело в том, что здесь цивилизационные стандарты и традиции тесно связаны с мощными монотеистическими религиями, сплачивающими людей вне зависимости от их этноплеменных и иных исторически складывавшихся связей. Это создает в современных условиях социополитиче-ский импульс невиданной силы и благоприятные условия для массовых движений, в ходе которых неудовлетворенные потребности (как и иные факторы, включая остро ощущаемое в рамках христианской или исламской традиции неравенство) играют роль масла, подливаемого в огонь.
С точки зрения потенциальных осложнений наибольшие опасения вызывает ситуация в Африке. Цивилизационно-ре-лигиозный фактор здесь (христианство и ислам) при всей поверхностности его воздействия имеет тот же вектор, что и в странах ислама и Латинской Америки, хотя он значительно ослаблен сохранением трайбализма, разделяющего африканцев и ведущего к глубоким этнополитиче-ским конфликтам. Культурная отсталость выражается, в частности, в слабой дисциплине труда и в огромном росте потребностей, намного перекрывающем экономические возможности. Беспрецедентные темпы увеличения населения и частые стихийные бедствия, приводящие к массовому голоду, еще более обостряют ситуацию в целом. Африка не в состоянии себя прокормить — и это трагедия для нее, ибо помощь в подобных условиях не только необходимая
81
предпосылка выживания, но и определенное препятствие развитию. Создается заколдованный круг: без помощи нельзя, а регулярная помощь в сложившихся условиях не способствует продвижению в деле самообеспечения. Кроме того, степень социальной (осложненной трайбализмом) и еще более политической нестабильности в Африке при отсутствии в большинстве случаев традиций собственной политической культуры крайне высока. Словом, перспективы развития здесь далеко не радужны.
Разумеется, это касается лишь наиболее отсталой части развивающегося мира, нижнего пояса «дуги развития». Вместе с тем нельзя не видеть, что пояс этот не проявляет тенденции к сокращению. Скорее напротив, он все заметнее растягивается и грозит охватить значительный сегмент дуги. И далеко не случайно мировое сообщество ныне всерьез ставит вопрос о выделении части средств, которые могут быть получены в результате разоружения, на цели помощи развивающемуся миру. Вопрос лишь в том, приведет ли помощь извне к ускорению его собственного развития. Ведь для достижения необходимого стандарта самообеспечения страны, о которых идет речь, должны добиться определенного уровня общей культуры и культуры труда, на что уходят даже не десятилетия, причем добиться этого при наличии крайне тонкого слоя цивилизационной основы и низкого стартового уровня развития.
Таким образом, проблем у развивающегося мира немало. Он в целом еще достаточно далек от капитализма европейского типа, хотя элементы новой структуры накапливаются и кое-где приближаются к критической массе, обеспечивающей переход в иное качество. Похоже, что в будущем это иное качество выльется в структуру промежуточного типа. Последняя будет базироваться на нормах традиции, обогащенной и даже трансформировавшейся благодаря усвоению элементов еврокапиталистиче-ской структуры. Видимо, в той или иной мере это коснется и Индии, и Китая.
В. Хорос: Леонид Сергеевич явно вышел за пределы обсуждаемой нами темы, поставив вопросы, которые, видимо, могут стать частью будущих дискуссий. Но мы ограничены и пространством, и временем. Поэтому давайте вернемся к вопросу о том, куда все-таки идут Индия и Китай.
Д. Фурман: Мне, думается, нельзя сказать, «куда идут» Индия и Китай, просто потому, что развитие продолжается, и в современном динамичном мире все социальные и идеологические формы оказываются временными, неустойчивыми, сменяются одна другой. Никто не в состоянии указать конечный пункт развития. Мы не знаем его и не можем знать, мы в состоянии лишь экстраполировать существующие тенденции, которые представляются устойчивыми или необратимыми.
Самая устойчивая тенденция — научно-техническое развитие. Нет той стены, за которой от него можно было бы спрятаться. Но «впустить» науку и технику — это значит «впустить» и ряд их социальных последствий, прежде всего разрушение несовместимых с современной организацией производства систем фиксированных наследуемых статусов. Процесс этот может идти весьма медленно и трудно. Традиционные иерархии обладают большим запасом устойчивости. Они могут камуфлироваться и прятаться за иерархию нового типа, так что брахман будет «наверху» не потому, что он брахман, а потому, что он образованный и уважаемый человек, выдвинутый на руководящую работу. Но сам этот камуфляж — признак отступления. Возвратиться к господству раджей и брахманов и китайского императора так же нельзя, как нельзя вернуться к войне при помощи слонов.
Так же неразрывно связано с научно-техническим прогрессом разрушение религиозно-догматических систем. Опять-таки могут происходить всякого рода религиозные возрождения. Но это всегда возрождения с одновременными (иногда на первый взгляд невидимыми) отступлениями. Индийский коммунализм, например, с барабанным боем провозглашающий возврат к древним традициям, вместе с тем отказывается от кастовой системы. Могут возникать и новые религиозно-догматические системы, но и они скрывают свою природу, как прячут ее наследуемые иерархии. В них нет той неколебимости, вечности и «самоочевидности», как в старых религиях. В ходе общественного развития могут проливаться реки крови, но не может быть возвращения назад, и встречающиеся «рецидивы средневековья», резкие понижения уровня культурной жизни, как правило, связаны с подъемом к культурной и общественной жизни ранее не участвовавших в ней «низших слоев», с демократизацией.
Думается также, что надо быть очень осторожным с генерализациями типа «Восток — Запад», «Европа — Азия» и т. д. Современное научно-техническое развитие стартовало в нескольких западноевропейских странах, прежде всего в Англии и Голландии, обладавших рядом уникальных социальных и идейных условий, которые сделали возможным этот «прорыв», а затем распространилось вглубь и вширь, ломая традиционные структуры в других европейских и неевропейских странах. Но возможности этого «прорыва» были именно в ряде стран, а не вообще в Европе (в которой существует и Албания) и не вообще в христианском мире (к которому относится и Эфиопия). Кроме того, одно дело — изобрести велосипед и совсем другое — научиться на нем хорошо кататься. Страны, в которых процесс современного развития стартовать не мог, тем не менее при определенных обстоятельствах великолепно могут к нему подключиться.
82
Мне кажется, что иногда у нас на заднем плане присутствует непроговаривае-мое рассуждение, а именно: если так был труден путь современного развития России, страны все-таки европейской, принадлежащей к христианской цивилизации, то путь азиатских стран должен быть еще труднее. Но это вовсе не обязательно. И Европа, и христианство очень разные. То же можно сказать и об Азии. Отдельные страны здесь сталкиваются с различными трудностями: опираясь на те или иные аспекты унаследованных культурных традиций, они более успешно модернизируют одни стороны своего социального бытия и менее — другие. Причем вполне можно допустить, что некоторые азиатские страны обладают такими благоприятствующими модернизации традициями, которых нет во многих странах Европы.
В. Хорос: Может быть, это положение как-то конкретизировать и наметить закономерности, выходящие за рамки извечной антитезы «Восток—Запад»?
Д. Фурман: Я предпочел бы пока держаться материала рассматриваемых нами стран. Очевидно, нет никаких видимых признаков того, что Индия и Китай могли бы сами прийти к науке и технике современного типа и связанным с ними социальным и идейным формам. Но в том, чтобы «пересадить» их на свою почву, они во многом преуспели. Здесь уже много говорилось об особенностях современного развития Индии и Китая, и я хочу дополнить сказанное сравнением влияния на это развитие их религиозных систем.
Первое и самое основное отличие заключается в том, что индуизм выстоял, а конфуцианство распалось. И это не случайно. Прочность индуизма объясняется рядом причин. Во-первых, глубокими философскими корнями, способными выдерживать напор новых знаний. Во-вторых, его не централизованной, не зависящей от государства, «самоуправляющейся» кастовой системой, устойчивой по отношению к историческим потрясениям, даже таким, как английское завоевание. В-третьих, его идейно-организационным плюрализмом, связанным с тем, что в индуистском кастовом обществе статус брахманов был гарантирован фактом их рождения таковыми — членами высшей касты, единственно способными выполнять важнейшие религиозные обряды. Это освобождало их от необходимости устанавливать жесткую идейную дисциплину, ортодоксию и создавать организацию церковного типа. Обладая абсолютно незыблемым статусом, они могли позволить и себе, и другим большую степень идейной свободы. Но раз нет единой жесткой ортодоксии, противоречие того или иного верования или обряда с новыми знаниями и потребностями воспринимается как частное противоречие именно данного учения и обряда, а не противоречие системы в целом. При таких особенностях индуизма процессы секуляризации в нем идут в форме реформации, причем не единого процесса (раз нет установленной ортодоксии, то не может быть и единой реформации), а множества частичных реформационных процессов (возникают новые религиозные учения, отмирают отдельные правила поведения тех или иных каст и т. д.).
Все сказанное выше о причинах стойкости индуизма объясняет одновременно, почему распалось конфуцианство. Не имеющее достаточно мощной философской основы, никакой иной организации, кроме государственной, неразрывно связанное с централизованным политическим устройством, конфуцианство не могло сохранить не только своего господства в обществе, но даже позиций в качестве оппозиционной «партии-церкви». Секуля-ризационные процессы в Китае соответственно шли в форме не постепенных реформационных изменений, а радикальной смены одной идеологии другой.
В. Хорос: Отсюда, из особенностей ци-вилизационно-культурного фундамента в Индии и Китае, очевидно, проистекает и разнотипность их политической модернизации?
Д. Фурман: Разумеется. Различие процессов секуляризации — это и различие форм социально-политического развития. Сохранился индуизм — продолжают существовать и касты и кастовая иерархия; эволюционирует индуизм — изменяется и кастовая иерархия, постепенно переходя в иерархию нового типа: образования, богатства, выборных должностей. Индийский путь — эволюционный, китайский — революционный. Это не значит, что первый путь медленный, а второй быстрый. Но первый — плавный, второй скачкообразный.
Безусловно, идеология индийского национально-освободительного движения и современных партий страны — не индуизм, и ценности, воплощенные в строе новой Индии,— не индуистские. Но это и не какая-то альтернативная индуизму мировоззренческая система, а сложный синтез современных ценностей (демократии, прогресса, науки, национальной независимости) с реформирующимся индуизмом, в котором все время ищется обоснование этих ценностей. В Индии не возникла современная политическая ортодоксия, равно как и в индуизме не сложилась единая ортодоксальная система верований. И если индуизм за этим ми ром предполагает совершенно иной источник всего сущего и истинной реальности — Абсолюта, Брахмана, и со ответственно в традиционной Индии «по зади» социальной повседневности находится мир отрешившихся от нее аскетов, то подобно этому в идеологической и политической жизни страны сегодня есть второй, «глубинный» план, который вполне проявился уже в национально-освободительном движении. С одной стороны, Индийский национальный конгресс — современная светская демократическая организация. С другой — ре-
83
лигиозно-реформаторское движение, возглавляемое святым, аскетом Махатмой Ганди, которому не нужны никакие посты в иерархии — он как бы «по ту сторону» формальной организации. Но именно он придает ей силу. И Ганди не исключение. Новейшая история Индии знает целую плеяду деятелей этого типа, хотя и меньшего масштаба, чурающихся формальной власти, но пользующихся колоссальной реальной властью полуполитиков-полусвятых.
Таким образом, религия все время присутствует в политической жизни, «подпирает» ее. Не случайно политики часто демонстрируют свою религиозность, прислушиваются к религиозным деятелям, а сама политическая деятельность порой принимает форму какого-то аскетического подвига — почти обязательного тюремного заключения за участие в разного рода кампаниях гражданского неповиновения, голодовок протеста и т. д.
В. Хорое: А в Китае?
Д. Фурман: Там все иначе. Распавшееся конфуцианство оставляет вакуум, который заполняется новой целостной идеологией. Но это не значит, что конфуцианство в отличие от индуизма не влияет на идеологическое и политическое развитие своей страны. Распавшись, оно оставляет за собой «привычки мысли и чувства», воздействующие на последующее общество бессознательно, но ничуть не меньше, чем индуизм. Китаец мог разочароваться в конфуцианстве как таковом, но идея, что Китай должен управляться на основе единого учения о правильном, справедливом общественном строе, который и есть высшая человеческая ценность, сохранилась. Именно так, несомненно, был воспринят широкими китайскими массами марксизм — как гораздо более серьезное, основательное, чем аморфная идеология Гоминьдана, учение о социальной справедливости, где тома Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина — Мао Цзэду-на выполняют функции конфуцианского Пятикнижия, учение, которое призвано вновь превратить Китай, но уже не застойный, слабый, а динамичный и сильный, в единую семью. И если современная индийская политическая идеология аморфна и «несамодостаточна», нуждается в освящении извне, со стороны тех, кто как бы принадлежит к иному миру, миру религии, то китайская идеология потребности в этом не испытывает, как не нуждалось в подпорке извне конфуцианство. Чан Кайши, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин — не фигуры «вне системы» как Ганди, Джаипракаш Нараян, Виноба Бхаве, а олицетворение «сакральности» государственной сферы в Китае. Как Ганди — наследник древних и средневековых индуистских святых, так и они наследники конфуцианских чиновников — жрецов — ученых.
Ясно, что этим разным путям идеологического развития соответствуют свои политические формы. Леонид Борисович очень правильно отметил, что «вестминстерская» система Индии при ее явно иноземном происхождении все же пустила глубокие корни в индийском обществе, которое слишком плюралистично идеологически и политически, чтобы в нем могла утвердиться какая-либо диктатура меньшинства. В нем слишком сильно почтение к религиозным праведникам, чтобы армия могла претендовать на важную политическую роль. Слишком сильны индуистские идеи кармы и малой значимости земной жизни, чтобы могла победить единая эгалитаристская социальная доктрина.
«Вестминстерская» система, таким образом, естественна в Индии. Но парламентаризм здесь покоится на традиционалистских основаниях, и они все время проглядывают наружу, как замазанная старая стенопись проступает через слой новой краски. Демократическим путем, добровольно индийцы избирают на ведущий государственный пост представителей одной и то же семьи, принадлежа-жащей к одной из высших брахманских каст. В парламенте заседают многие демократически избранные князья. За партийной борьбой четко проступают склоки кастовых группировок, в нее периодически врываются фигуры «святых». В очень демократическом обществе вертикальная мобильность очень слаба и очень велик разрыв между богатством одних и нищетой других.
И как для Индии, на мой взгляд, естествен парламентаризм, так для Китая с его конфуцианской традицией он глубоко чужд. Характерно, что даже тайваньские правители, для которых гак много значит общественное мнение Запада и которые всячески стремятся противопоставить свои порядки континентальным, многопартийную систему ввести не могут. Китаец приучен, что может быть лишь одно, истинное учение о справедливом общественном строе и править должны те, кто лучше знает это истинное учение. Как современная китайская идеология — преемница конфуцианства, так и иерархия ганьбу — преемница иерархии шеньши.
В. Хорос: Различное культурное наследие порождает различные идейно-политические формы и соответственно разные проблемы. Каковы же они на данном этапе в Индии и Китае?
Д. Фурман: В Индии они, очевидно, прежде всего связаны с относительной слабостью современного государства, основанного на демократических принципах. Индийские государства никогда не были прочны, индийцы очень спокойно относились к распаду царств, возникновению новых, даже, как мне кажется, к приходу завоевателей. И сейчас в Индии лояльность к государству и к современным политическим партиям все время перевешивается лояльностью к кастам, языковым группам, религиозным общинам. Страна все время раздирается борьбой не столько партий, сколько общностей,
84
ведущих свое происхождение из далекого прошлого. Кастовая иерархия не признается юридически и размывается фактически. Но это значит, что борьба каст может даже усиливаться. С другой стороны, индуистам, разделенным на касты и секты, никогда не было свойственно сильное чувство «мы — индуисты». Сейчас, по мере размывания кастовой системы, это чувство растет и соответственно вспыхивает религиозно-общинная борьба. Раньше индусы разных каст не могли объединиться в толпу погромщиков — сейчас очень даже могут. Повышается грамотность, развиваются местные языки — и возникает возможность противопоставления языковой идентификации (мы — тамилы, мы — маратхи) общеиндийскому патриотизму. Хотя Индия смогла добиться независимости без острых социальных катаклизмов, но избежать ожесточенной борьбы религиозных общин — индуистской и мусульманской — и раздела страны она не смогла. И сейчас самый сложный конфликт — сикхско-индуистский. Единство Индии, нормальное функционирование ее институтов все время в опасности, хотя опасность эта исходит от множества относительно локальных конфликтов, с которыми пока что удается справиться.
Трудности Китая — совсем иного рода. Единство своей страны настолько несомненно для китайцев (как есть единое Небо над нами, так есть и единая Поднебесная), что даже тайваньские правители не могут отказаться от фикции, что они и есть правительство Китая. Истоки этого, очевидно,— традиционная идейная и моральная монолитность китайского общества. И если Индия страдает от недостаточной интегрированности индийцев в свое государство, то Китай, если так можно выразиться, от чрезмерной лояльности и заинтересованности. Одна из важнейших максим конфуцианства, вошедших в плоть и кровь китайцев,— моральный долг восстать против плохого правителя. Император — отец, но если он явно не отец, то он и не император. Небо отнимает у него «мандат». Поэтому Китай — классическая страна восстаний, не устанавливающих новый строй, а восстанавливающих начинающий распадаться, «коррумпироваться» старый. Китаец не будет покорно сносить социальную несправедливость. Он отнюдь не стремится сам выбирать правителей и готов подчиняться чиновничьей иерархии. Но ему надо быть уверенным, что это иерархия мудрых правителей, заботящихся о народе. И в событиях новейшей китайской истории — победе го-миньдановцев, затем — коммунистов, культурной революции, ликвидации «банды четырех»,— на мой взгляд, отчетливо проглядывает древняя модель периодической насильственной смены коррумпированной иерархии новой, «чистой». Только в современном Китае критерии социальной справедливости становятся менее определенными.
Сейчас Китай добился колоссальных успехов, раскрепостив экономику, последовательно проводя принципы материальной заинтересованности. Но это означает возникновение глубоких имущественных различий, справедливость которых всегда сомнительна. Очевидно, очень важная для Китая проблема ныне — найти компромисс между императивами современного развития и органичным для китайской традиции требованием патерналистского государства, заботящегося о подданных и следящего за соблюдением справедливости.
Таким образом, из несходства религиозных традиций Индии и Китая вытекают несходство и даже противоположность способов решения сегодняшних проблем. Они создают разные трудности для современного развития, но одновременно содержат и разные точки опоры для него. Так, Индии не надо мучительно вырабатывать мировоззренческую терпимость — ей нужно лишь «переплавить» традиционалистскую терпимость, неразрывно связанную с кастовым строем, в терпимость современного типа. Ей не надо создавать выборные демократические институты, нужно лишь сохранить и развивать существующие. Китаю же не надо преодолевать традиционалистскую иерархию наследственно передаваемых статусов, добиваться заинтересованности народа в государстве, понимания того, что это его государство,— нужно лишь освобождаться от догматического и патерналистского отношения к нему.
Индия и Китай развиваются каждый своим и отличным от другого путем, но в одном направлении — к экономике, все более основывающейся на научно-техническом прогрессе, и к социально-политическим и идеологическим структурам, все более динамичным, не догматическим и демократическим. Они идут в этом направлении, потому что иного в современной истории, похоже, просто не дано.
В. Хорос: Выходит, что распавшееся конфуцианство влияет на современное развитие Китая не меньше, чем сохранившийся индуизм на сегодняшнее развитие Индии? Тут, мне кажется, есть какая-то несостыкованность.
А. Зубов: Я не стал бы так уж резко противопоставлять нынешнюю индийскую религиозность и китайский атеизм. В равной степени вряд ли правомерно резко разграничивать направления политической модернизации в Индии и Китае. В Японии, скажем, где цивилизаци-онно-культурная основа близка к китайской, привился парламентаризм, сходный по своим формам с индийским. Здесь и доминантнопартийность, и личностные ориентации избирателей, и склонность к консенсуальности при принятии решений, и наследуемость замещения должностей. Ученые, осуществлявшие полевые исследования и в японской «глубинке», и в городских центрах,
85
давно уже обнаружили, что на поведение участников политического процесса влияют главным образом принципы долга, человеческих чувств и землячества. Хотя для западного политолога — это экзотика, но на Востоке такие ориентации вполне типичны. К примеру, в индийской политической жизни они проявляются повсеместно.
Поэтому, думаю, нет оснований считать, что различие нынешних китайских и индийских политических форм коренится в цивилизационной и, как полагает Дмитрий Ефимович, в религиозной специфике Южной Азии и Дальнего Востока. Скорее этому есть какие-то более частные, конкретные объяснения. В принципе же Китаю не закрыт путь к парламентаризму, равно как и для Индии более авторитарная система не является невозможной. Подобно другим заимствованиям, западная демократия прививается там и так, где и как потребно данному обществу, не меняя его цивилизационной специфики, но обогащая и укрепляя ее. Хотя в ближайшем будущем .нынешние политические формы развития в этих странах, по-видимому, сохранятся.
В. Хорее: Желает ли кто-нибудь еще высказаться по затронутым вопросам?
М. Чешков: Я хотел бы вернуться от рассмотрения конкретных современных проблем к вопросам теоретико-методологическим. Тем более что диалог Леонида Борисовича Алаева и Леонида Сергеевича Васильева далеко вышел за рамки межстрановых сравнений и развернулся в контексте сопоставления доколониального и постколониального миров или — при всей условности этих понятий — Востока и «третьего мира». Меня интересует в первую очередь преемственность между этими мирами, поскольку трудно понять «третий мир» без Востока, а изучение постколониального мира может оказаться полезным для понимания некоторых аспектов доколониальных обществ.
Наши главные собеседники убедительно показали нам, насколько прочны и значимы в нынешних развивающихся странах отдельные аспекты культурных традиций — идет ли речь о сохранении неисторического восприятия мира в массовом сознании (Индия), эгалитаристских представлений (Китай) или принципа иерархичности социального порядка (обе страны). Интересно намечена у них и проблема развития самой традиции, на базе свойственного ей способа легитимизации отклонений от нормы. Легитимизация отклонений на уровне социального поведения («бунт — дело правое»), кажется, несет в себе большие возможности для развития в пределах традиции (Китай), нежели на уровне индивидуального поведения (Индия). В контексте же начинающейся (извне) модернизации потенции к развитию этих видов традиций как бы меняются местами или, во всяком случае, выявляются в различных путях развития (революция и эволюция). Несмотря на эти существенные отличия, в обоих случаях признается устойчивость традиции в «третьем мире», и он рассматривается, по существу, через ее призму. Для такого подхода есть немало оснований. Но возникают и вопросы.
Что же собой представляет традиция у Л. Б. Алаева и Л. С. Васильева? Это и способ поддержания стабильности, даже стагнации, и путь развития, и нечто вроде формации («феодализма» и «азиатского способа производства»); и социальная система; и цивилизация (и одна, но в двух вариантах, и две, а то и три цивилизации). Если ее и можно выразить однозначно, то лишь по отношению к Западу, как нечто «незападное». Леонид Сергеевич предлагает понимание общности «третьего мира» через «свою» (китайскую) традиционную модель, воплощенную в доминанте государственного начала. Я полностью разделяю точку зрения о «третьем мире» как об общности. Точно так же я вполне готов, учитывая мои прошлые работы, выразить данную общность через ту корпускулу, которую он называет «госвластью-собственностью». Спорно или по меньшей мере проблематично, на мой взгляд, отождествление этой корпускулы с ее традиционным (азиатским, китайским) аналогом. Попробую это пояснить.
Представляется, что социально-эконо
мическое содержание данной корпускулы
в нынешних развивающихся странах качественно иное, нежели в ее историческом (традиционном) аналоге. Непосредственные производителя здесь уже не соединены «естественно» со средствами производства, но утратили эту связь,в той или иной форме отделены от средств производства. Поэтому, хотя феномен «госвласть-собственность» сохраняется в нынешнем развивающемся мире и даже занимает доминирующие позиции, его содержание существенно изменилось. Можно использовать такое сравнение: на прежней кристаллической «государственной» решетке воспроизводятся разные социальные образования — капиталистические, социалистические, неотрадиционалистские. Иными словами, чтобы ответить на вопрос, сохраняет ли свою устойчивость феномен («госвласть-собственность») или нет, необходимо при его анализе отделить принцип примата госвласти (шире политики)
от составляющих данный феномен элементов (власти-собственности). Поскольку названный принцип работает и в традиционном, и в современном социумах, то он сам по себе не есть ни традиционный, ни современный. Препятствует модернизации не этот принцип, а такая связь госвласти и госсобственности, когда второе есть лишь экономическая реа
лизация первого, что задается уже общим уровнем (и типом) развития.
Далее. Тезис об устойчивости традиционного феномена «госвласть-собственность» не очень работает при срав-
86
нении послереволюционных обществ Китая и, скажем, России. По логике Л. С. Васильева получается, что чем прочнее социально-исторические корни этого явления, тем полнее он воспроизводится на стадии модернизации (и наоборот). Однако в Китае, где этатистские традиции намного древнее, нежели в России, «госвласть-собственность» в послереволюционный период оказалась менее продолжительной (примерно два десятилетия против семи), менее устойчивой («культурная революция», не имеющая аналога у нас) и более способной к самопреобразованию (успех курса «четырех модернизаций» примерно за десятилетие против неудачных попыток реформ в советском обществе в течение трех десятков лет). Видимо, «государственный генотип» в Китае был существенно подорван за последние сто лет. Что же касается СССР, то феномен «госвласть-собственность» получил здесь дополнительные импульсы к развитию в результате действия различных факторов — временной изоляции и враждебного окружения, необходимости ускоренной индустриализации и укрепления обороны, разнородности национального состава, статуса великой державы и возрождения соответствующих традиций. Отсюда — многое из того, что обнаружило свой исторически преходящий характер в процессе перестройки: гипертрофированная административная система, командные (и затратные) методы управления экономикой, всеохватывающее планирование, свертывание товарно-денежных отношений и т. д.
Думается, что введенное Л. С. Васильевым понятие «государственный способ производства» пока недостаточно размежевано (или состыковано) с категориями культурологическими и социологическими, а также с категорией общественно-экономической формации. Поскольку он признает наличие на традиционном Востоке «еще не оформившихся классов», то можно интерпретировать это понятие в духе или сохраняющейся «архаичной» формации, или как симптом зарождающейся формационности, то есть перехода от первичной (макро-)формации ко вторичной (по К. Марксу), к обществам классового типа. Восток, как и Запад, складывается в русле формационного развития, но первый остается на этапе зарождающейся формационности, а второй через ряд этапов реализует формационность в полном (капитализм) и всеобщем виде (в мировых масштабах). Но здесь еще над многим необходимо подумать, в частности над «укрупнением» категорий, раскрывающих содержание понятия «формация».
Итоги диалога — для понимания «третьего мира» — видятся мне в следующем: при типологическом сходстве Востока и «третьего мира» (наличии корпускулы «госвласть-собственность») последний нельзя исторически и, видимо, логически выводить из Востока; понятие цивилизации (пока!) мало что прибавляет к пониманию «третьего мира» как специфической общности в контексте современности. Формационный подход к развивающимся странам может быть принят лишь как частичное объяснение их генезиса и не работает в объяснении их развития. Проблема соотношения Востока и «третьего мира» остается по преимуществу методологической, предполагая поиск единства исторического и логического в изучении этих объектов, несомненно, разного класса и порядка.
В. Шейнис: Наше обсуждение, видимо, подходит к концу, и наступает пора собирать, а не разбрасывать камни. Тем не менее я попытаюсь подбросить еще несколько вопросов, прежде чем мы придем к какому-то итогу.
Все участники дискуссии исходили из того, что сегодня в жизни обеих великих стран весьма важное место занимают — и даже в высокой степени детерминируют ход событий— их традиции, отличные от европейских, во-первых, и друг от друга, во-вторых. Марат Александрович Чешков уже отметил некоторую непоследовательность в истолковании роли традиции в современных условиях. Я склонен пойти дальше и даже утверждать о несовместимости ядра того социально-генетического сгустка, который пронесен через века, даже десятки веков, и наречен именем традиции, с императивами современности.
На наших глазах ситуация на Востоке перестала быть статичной, стронулась с векового застоя, запечатлевшегося в традиции. Стронулась куда? Леонид Сергеевич, говоря о векторе современного развития, отметил, что элементы еврокапиталистической структуры, внедрение которых началось с эпохи колониализма, продолжают расти и накапливаться. Это верно. Но необходимо, во-первых, отдавать себе отчет в том, что в накоплении современных элементов наступил скачок, длящийся уже два-три десятилетия. Возможно, началось возвращение к ситуации, которая, по словам Леонида Сергеевича, существовала до VIII—VII в. до н. э., когда мир развивался по одной модели. Во-вторых, в понятии вектора надо раскрыть скобки: обозначить инвариантные черты этой новой модели. В первом приближении она видится так:
— научно-индустриальная система производительных сил, гибко сочетающая высококонцентрированное, массовое и предельно индивидуализированное, децентрализованное производство и вписанная в экологические ограничения;
— экономический механизм, в котором доминирующее место занимают товарно-денежные отношения между хозяйственно автономными субъектами, корректируемые в определенных пределах «правилами игры», которые устанавливаются центром;
— социальная организация гражданского общества и соответствующий ей тип политической демократии;
— социокультурный строй, основополагающими принципами которого являются суверенность индивида в обществе, посюсторонняя жизнь как ценность высшего порядка и социально-психологическая установка, расценивающая свободу как возможность выбора.
Все элементы этой модели взаимосвязаны и взаимозависимы, и развитие ни на одном из этих направлений не может быть отложено без риска серьезных деформаций всей модели. По моему убеждению, это вектор современного исторического развития, хотя встречаются, конечно, и попытки осуществления реакционно-романтических утопий или катастрофических (к сожалению, не исключенных) вариантов вроде того, который был «разыгран» в Кампучии. Сказанное, конечно, не исключает ни длительности перехода, ни многовариантности его путей и менее всего обещает счастливую идиллию в духе шиллеров-ской оды «К радости»: «обнимитесь, миллионы!» По крайней мере в обозримой перспективе.
Опыт Китая и Индии для оценки этой перспективы имеет непреходящее значение. В годы распада колониальной системы у нас многократно цитировались слова В. И. Ленина, что России, Китаю и Индии предстоит определить ход мировой истории. Со временем, по известным причинам, мы перестали вспоминать эту мысль. Сегодня она высвечивается новой, неконфронтационной гранью. Не в том смысле, что эти страны, соединившись, смогут опрокинуть западный капитализм, а в том, что Китай и Индия в силу своего веса и колоссального, далеко еще не развернутого потенциала будут накладывать отпечаток на будущее всего мирового сообщества (или, во всяком случае, «третьего мира»), подобно тому, как сейчас накладывают его СССР, США, Западная Европа и Япония. Мир в целом не сможет обрести необходимой устойчивости, пока не будут в решающей степени модернизированы Индия и Китай. Социализм в китайском оформлении и капитализм в индийском выступают как два равнозначных варианта модернизации, два пути перехода.
Проблема перехода — центральная для обеих стран. Леонид Сергеевич нащупал главное противоречие: сильное государство при слабости рынка нагнетает экономическую неэффективность и порождает известные социальные деформации (Китай, добавляет Д. Е. Фурман, страдает от чрезмерной заинтересованности граждан в опеке государства): с другой стороны, стихия рынка при ослабленном государстве ведет к хаосу, если не к катастрофе. Это, в сущности, известный из античной мифологии выбор между Сциллой и Харибдой. Гомеровский образ нередко интерпретируется произвольно: последователей Одиссея ориентируют на поиск возможности как-то прошмыгнуть между двумя чудовищами. В реальной действительности, как и в легенде, как правило, такой возможности нет: приходится выбирать из двух зол. И хотя в различных ситуациях каждое зло может казаться то большим, то меньшим, в любом случае наибольшее зло — именно с оглядкой на традицию, затрудняющую переход,— атрофия самонастраивающихся механизмов развития, скованных изначально, подобно девочкам в Китае, которым бинтовали ноги сызмальства.
В настоящее время быстрое развитие капитализма в Индии, хотя и на ограниченном социальном пространстве, и наметившийся переход к структурам товарного производства в Китае, казалось бы, свидетельствуют, что экономика в обеих странах сделала важные шаги по пути сформирования ее в современную систему производства. Но здесь-то как раз и возникает — даже если допустить, что эти шаги прочны и необратимы,— и основная коллизия: два разных системообразующих принципа, современная экономика и традиционное общество, традиционные формы общественных связей и воззрений, проникающие в современный сектор и в той или иной степени подчиняющие его своим нормам.
Если под этим углом зрения посмотреть на китайскую и индийскую традиции, то можно прийти к заключению, что в каждой из них есть какие-то компоненты, кирпичики, которые могут быть использованы при возведении современной постройки, «сработать» на переход. В Китае это, по-видимому, экстравертивные ориентиры конфуцианства, утвердившийся принцип социальной мобильности и трудовая мораль. В Индии — идейная и этическая терпимость, негосударственные формы общественной самоорганизации и идейно-организационный плюрализм. Но есть, бесспорно, и тормозящие факторы, опять-таки уходящие корнями в традицию.
В. Хорос: Но новые тенденции, как считают многие, все же перевешивают…
В. Шейнис: Я готов примкнуть к этим «многим». Мне кажется, что в нашем обсуждении намечался подчас известный «пережим» на традицию — и в смысле некоторой недооценки современных императивов, и в виде известной универсализации ее объясняющей силы.
На протяжении всего XX в.— от движения ихэтуаней до «культурной революции» — Китай бился в пароксизмах гражданских и внешних войн, декорации на центральной и местных сценах многократно менялись. За тем, как это происходило и как воспринимала разыгрывавшуюся историческую драму мно-госотмиллионная публика, волею судеб собранная воедино и постоянно рекрутировавшая новых актеров на сцену, конечно, стояла традиция. Но одной лишь традицией нельзя объяснить переход от одного акта к другому — от тысячелетней империи к милитаристам, от милитаристов к Гоминьдану, от Гоминьдана к коммунистам, от Мао к Дэну.
88
Традиция наряду с другими факторами определяла границу между возможным и невозможным, диапазон, в котором общество вольно было выбирать варианты развития, а также наряжала в соответствующие одежды (одежда тоже влияет на поведение) действующих лиц этой исторической драмы. Но само развитие вели иные, главным образом современные мировые процессы.
В. Хорос: Возникает вопрос: что же дальше?
В. Шейнис: Боюсь, что некоторые оценки, прозвучавшие здесь, чрезмерно оптимистичны. Дэн Сяопин, говорили нам, «сумел сравнительно легко перестроить экономику, а вслед за тем взяться и за перестройку социальных отношений и форм власти». Нисколько не пытаясь преуменьшить все то, что сделал Дэн Сяопин, вокруг которого быстро консолидировались реалистически мыслящие силы в партии, уцелевшие после всех чисток, полагаю, что еще рано утверждать, будто «старая структура зримо ломается».
Да, поразительные экономические результаты и оживление общественной жизни Китая после 1978 г.— результат смело проведенной реформы. Но нельзя не видеть, что эффект первичного раскрепощения экономики и общества если еще и не исчерпан, то зримо убывает. Возникают новые, очень сложные проблемы, а обращение с ними не всегда демонстрирует прежнюю решительность. Утверждая, что произошло расслоение феномена госвласть-собственность уже через 20 лет после того, как он возник, Марат Александрович Чешков явно принимает желаемое за действительное: демонтирована пока лишь абсурдная в XX в. система тотального социально-экономического контроля над крестьянским большинством населения и сделаны некоторые принципиальные шаги к восстановлению внутреннего рынка и его включению в рынок мировой. Если движение в этом направлении и необратимо (во что хотелось бы верить), то попытки попятного движения весьма вероятны.
Опыт Китая, и положительный и отрицательный, обладает для нас несомненной ценностью. Китай, который какое-то время шел вслед за нами в создании административно-командной системы, раньше и быстрее стал от нее освобождаться. В этом качестве он выполняет на нынешнем историческом отрезке роль одного из первопроходцев среди социалистических стран. Хотя по важнейшим экономическим и социальным показателям он отстоит достаточно далеко от СССР, нам, возможно, придется поучиться у него — и не в частностях, а в главном: в преодолении факторов торможения и создании современного хозяйственного механизма, в некатастро-фическом расшивании узких мест и избежании серьезных кризисных обострений.
Опыт Индии весьма важен в другом
отношении. В европейских обществах хозяйственный рост, экономическая унификация, либеральные и демократические реформы и расширение цензового слоя, принимающего участие в политике, при всей неизбежной неравномерности и разрывах, в общем коррелировали друг с другом. Опыт, отразивший этот тип исторического развития, приводил к, казалось бы, непреложному выводу: развертывание классовой борьбы, подключение к ней возможно более широких масс, идущих за социально авангардными группами и слоями, наращивание их притязаний, обращенных против привилегированных классов и слоев,— важнейший фактор общественного прогресса.
В «третьем мире» экономический рост, значительно превосходящий по темпам и масштабам все, что на аналогичной стадии знала Европа, локализован на социально более или менее ограниченном пространстве; плоды его в течение продолжительного периода не могут и не будут распределяться равномерно, ибо это подрубило бы саму возможность дальнейшего движения. Критикуя «элитарную» модель развития и размышляя над тем, каким образом могут быть смягчены ее крайности, необходимо учитывать, что традиционный сектор с его устоявшимися традициями и пониженными притязаниями выполняет — в Индии лучше, чем во многих развивающихся странах, — важную стабилизирующую функцию, компенсирующую неизбежные перекосы экономического развития. Его стремительное размывание действительно превратило бы Индию в десяток Ира-нов, и международные последствия такого превращения нетрудно представить себе. Происходит даже, как мы видим, наращивание конфликтного потенциала (прежде всего на этнической и религиозной почве), негативно влияющее на экономический и социальный прогресс.
Я полагаю, что опыт независимого развития освободившихся государств позволяет прийти к очень важному и определенному выводу. А именно: политическая мобилизация, включение в политическую борьбу традиционалистских или полутрадиционалистсккх масс — обоюдоострая вещь, которая может иметь весьма неоднозначные последствия. Можно сказать, что в современную эпоху на громадных пространствах «третьего мира-» термин «демократия» претерпел удивительные превращения, обозначая порой те или иные явления и режимы «с точностью до наоборот». Развернувшиеся здесь популистские движения, различные по происхождению и идеологическому оформлению, нередко вели к утверждению не демократического правосознания и порядка, а его антипода — авторитаризма, противостоящего на главных направлениях той модели общественного устройства, о которой я говорил вначале. На волне популистских движений на смену олигархическим режимам не раз приходили молодые, свежие, нередко кровавые диктатуры. Вот
89
почему альтернативный политический опыт Индии, сумевшей сочетать гуманистические ценности древней цивилизации, присущую ей установку на консенсус, а не на конфронтацию, элементы «вестминстерской» системы и гандистскую доктрину ненасилия, имеет всемирно-историческое значение.
Индийская демократия, конечно, весьма хрупка. Формирующиеся здесь эмбрионы гражданского общества возвышаются над добуржуазной средой, действительно способной порождать опасные вспышки насилия. И все же можно сказать, принимая во внимание колоссальные размеры страны и остроту социальных противоречий, что Индия показала сравнительно сбалансированный вариант общественного развития. В отличие от Пакистана она не только не подверглась дальнейшему дроблению, но и относительно успешно модернизировала верхние этажи своей социально-экономической структуры, поддерживая не выходящее за рамки привычных норм существование сотен миллионов людей на нижних, сохраняя цивилизованные формы политической организации на государственном уровне и, возможно, намечая какой-то вариант синтеза национальной духовной традиции и демократических ценностей современной эпохи.
Л. Васильев: С интересом выслушал коллег и со многими их замечаниями готов согласиться. Если резюмировать сказанное ими, то оно сводится к тому, что традиция, хотя она и сохраняет силу, все же постепенно сдает позиции. В принципе это бесспорно. Вопрос лишь в том, на какой стадии процесса находятся развивающиеся страны (Индия и Китай в частности) и чего можно ждать от них в ближайшем будущем.
Речь не идет о предсказаниях. Мы вправе делать только некоторые предположения, оперируя при этом уже зафиксированными тенденциями и имея в виду их возможное воздействие впредь. С тенденциями, в общем, все достаточно ясно: есть и то, что характерно для всего неевропейского мира, и то, что определяет специфику развития отдельных его частей, на чем акцентировал внимание Д. Е. Фурман. Справедлив и высказанный им тезис о том, что научно-технический прогресс необратим и что он подрывает традицию. Совершенно верна мысль М. А. Чешкова, что феномен «власть-собственность» сегодня выглядит иначе, чем в далеком прошлом. Хотя важнее все-таки то, что этот феномен и в новой своей модификации, близкой к госкапитализму, не только жив, но и жизненно важен для развивающегося мира, включая страны, ориентирующиеся на социалистическую модель.
В. Л. Шейнис поставил проблему несовместимости традиций с императивами современности, сформулированными им в виде четырехчленной модели, все элементы которой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Мало того, он настаивает на том. что необходим именно выбор между одним и другим. Но вот что характерно: как только Виктор Леонидович от общих формулировок перешел к конкретике, он заговорил в ином тоне, весьма близком к моему (Китай, видимо, изменяется, традиционное в нем отступает, но не следует быть «чрезмерно оптимистичным»; Индия развивается, демократизируется, но демократия ее «весьма хрупка», «эмбрионы гражданского общества» являются лишь вкраплениями в море традиции). Неудивительно, что я целиком поддерживаю вторую часть его выступления и несколько неудовлетворен первой.
Действительно ли мы имеем дело с «несовместимостью» и необходимостью выбора? А не вернее ли считать, что оба начала вынужденно совмещаются (точнее, сосуществуют и даже взаимодействуют) и что именно благодаря этому происходит то самое накапливание элементов новой, чуждой традиции структуры, которое Виктор Леонидович признает? Что нет необходимости выбирать между привычным и чуждым, есть необходимость вписать многое из чужого (та же инвариантная модель, о которой упоминалось) в традиционно привычное? Замечу только, что и здесь речь идет не столько о гармоничном синтезе — наподобие того, что имеет место в Японии,— сколько именно о вынужденном сосуществовании, своего рода симбиозе. Приведет ли он к синтезу — в этом и состоит проблема, которая находится в центре нашей дискуссии. Полагаю, что до этого еще очень далеко и что, более того, едва ли такое вообще может быть достигнуто всем развивающимся миром.
В. Шейнис: Леонид Сергеевич обнаружил в моих высказываниях противоречие, которого я, признаться, не нахожу. Попробую объяснить. На чем я стою? Первое: традиционный строй восточных культур в главном, а не в частностях несовместим с современной индустриальной и научно-индустриальной цивилизацией (в частностях как раз совместим). Второе: у большинства национально-государственных сообществ нет альтернативы перестройке, которую задают императивы современности, если, конечно, не считать таковой деградацию и коллапс в конечном счете. Третье: «четырехчленная модель» — вектор, который определяет долговременную перспективу. Поэтому, обозначив главную тенденцию, я ни в коей мере не предсказываю сроки ее более или менее полной реализации и не утверждаю, что развитие будет неизменно поступательным. Напротив, совмещение традиционного и современного, вероятно, на длительный срок будет источником несбалансированности, разного рода обострений и конфликтов. Обойти эту полосу нельзя, но оба великих народа учатся ее преодолевать, хотя и с немалыми издержками и потерями.
Л. Алаев: Я хотел бы прояснить еще один вопрос — о «хрупкости» индийской демократии. Этот тезис в устах оптимиста В. Л. Шейниса появился отчасти,
90
может быть, под влиянием моего предыдущего выступления, когда я упомянул о грозящих ей опасностях. Но я не считаю индийскую демократию хрупкой! Она зиждется на двух, хотя и разнородных, но прочных основаниях — на пробуржу-азных модернизированных слоях и традиционных ценностях. А. Б. Зубов в ряде работ развивает мысль о том, что демократия воспринимается в Индии (и на Востоке в целом — поскольку воспринимается!) не по мере модернизации сознания, а непосредственно традиционным сознанием, и я с ним согласен. Другое дело, что такое восприятие видоизменяет сам объект восприятия, но об этом уже говорилось. И уж совсем иное — то, что второе основание представляет собой огромный, медленно тающий айсберг. Но опасность перевернуться, связанная с таянием, еще очень далека.
В настоящее время нет сил, которые серьезно угрожали бы индийской демократии. Ни левацкие (ультрареволюционные), ни коммуналистские (индуистские) силы не пользуются поддержкой масс. Армия не играет политической роли, и нет признаков того, что она политизируется. Раздающиеся в Индии время от времени возгласы об угрозе демократии — это просто политический прием одной партии против другой, своего рода профилактика. Реальной угрозы демократической системе не было ни в 1975 г., когда оппозиция пыталась свергнуть И. Ганди, ни в 1977 г., когда эта оппозиция пришла к власти, ни в 1980 г., когда на выборах победили силы, объявленные их противниками «авторитаристскими».
«Хрупкость» индийской демократии — понятие теоретическое, использование его может быть полезно в аналитических целях. Но в политическом прогнозировании следует, наверное, исходить все-таки не из процесса таяния айсберга, а из его абсолютных размеров. Что же касается «вспышек насилия», то они порождаются, как правило, не «добуржу-азной средой», а, напротив, более продвинувшимися в формационном отношении элементами.
В. Хорое: Плодотворность проведенного обмена мнениями очевидна. Был высказан целый ряд оригинальных суждений, догадок, соображений, прорывающих привычные схемы. Попробую выделить некоторые из идей, которые представляются мне особенно интересными и перспективными.
Прежде всего — интерпретация Леонидом Сергеевичем Васильевым формационной теории марксизма, его модель мирового исторического развития. В принципе это модификация концепции «азиатского способа производства», но выходящая за рамки линейной смены одних формаций другими, превращающая «азиатский путь» в некий универсальный тип исторического развития. Л. С. Васильев не раз обосновывал свои взгляды в литературе, и они постепенно начинают завоевывать сторонников. Это говорит о том, что обретено определенное направление теоретического поиска. Вместе с тем, на мой взгляд, обнаружились и те моменты, которые нуждаются в дополнительном осмыслении.
Во-первых, что это за социальная мутация, происшедшая в античной Греции? Почему именно там? В чем заключались истоки и каков был механизм разрыва той очень жесткой, самовоспроизводящейся и труднопреодолимой связки «государство— общество», которая, по Л. С. Васильеву, была характерна для всех доантичных обществ? В работах по истории античности эти проблемы практически не ставятся, соответствующие источники очень скудны. Тем не менее какая-то более определенная интерпретация этого исторического прорыва необходима, тем более что она чрезвычайно важна и для осмысления процессов модернизации, происходящих в развивающихся странах, то есть для понимания в принципе того, каким образом совершается переход от традиционных, до-буржуазных, «восточных» структур к современным (или синтез этих структур).
Во-вторых, не совсем ясно, что такое «восточная структура», о которой говорит Леонид Сергеевич. Протоформация? Надформационное образование, разделившееся затем на две различные линии мирового развития? Или особая формация, определяющая направление общественной эволюции в неевропейском мире? Если да, то каковы ее разновидности? Этот вопрос уместен хотя бы потому, что достаточно очевидны различия между отдельными странами, входящими в ареал «восточных структур». Например, системообразующая роль государства далеко не одинакова в том же Китае и той же Индии, как это явствует из анализа Л. Б. Алаева и Л. С. Васильева.
Далее, какова связь между формационными и цивилизационными характеристиками обоих основных разветвлений мирового исторического процесса? Скажем, если принять «восточную структуру» за особую формацию, то в европейской модели получается несколько формаций на базе одной цивилизации, а в неевропейской модели — несколько цивилизаций на базе одной формации. Чем обусловлено такое несоответствие? Нет ли тут смешения формационных и цивилизационных сторон и в чем заключается корреляция между ними?
Таких вопросов можно задавать еще много (этого же касался в своем выступлении М. А. Чешков). Я говорю это не к тому, чтобы пытаться зачеркнуть соображения, высказанные Леонидом Сергеевичем,— напротив, они представляются мне весьма интересными и перспективными,— а к тому, чтобы указать на необходимость дальнейшей проработки намеченной теоретической схемы.
Л. Васильев: Позвольте мне, Владимир Георгиевич, высказать еще несколько соображений, прежде чем вы подведете итоги нашей дискуссии. Дело в том, что я не предполагал ставить вопрос о формациях. Но коль скоро он возник,
91
то должен заметить, что, на мой взгляд, во всей постпервобытной истории человечества есть только две формации, каждая во множестве конкретных модификаций. Одна из них — европейская, от античной модификации до современной. Другая — «восточная», точнее, неевропейская, с характерным для нее «государственным способом производства», различные модификации которой существуют в разных частях света по сей день. Таким образом, «восточная структура» не протоформация (нечто в этом роде постулировал и М. А. Чешков), но именно формация, принципиально отличная от европейской. Что же касается проблемы цивилизаций, то они, будучи завязаны в один узел прежде всего с религией и соответствующей культурной традицией, непосредственной связи с формациями не имеют. Поэтому-то в последние годы наряду с формацион-ным анализом завоевывает права гражданства и цивилизационный.
В. Хорос: Теперь об одной важной идее, к которой пришли, каждый на своем материале, оба наших основных собеседника. Как Индия, так и Китай обнаруживают поразительную устойчивость добуржуазных отношений, социальных институтов и цивилизационных ценностей, несмотря на стремительные изменения последних десятилетий, бесспорный процесс модернизации, идущий в обеих странах. Эти отношения, институты и ценности сохраняются, образуя некоторое структурное ядро, которое определяет и характер модернизационных сдвигов. В самом деле, и приспособление кастовой системы ко всем происходящим экономическим, политическим и культурным новациям в Индии, и обнаружение того, что «китайский НЭП», семейный подряд, и т. д. есть не что иное, как возвращение к норме отношений, испокон веков существовавших в Китае между государством и обществом,— все это свидетельствует о том, что сегодняшнее новое оказывается во многом модификацией старого.
В подобном подходе налицо, по-моему, исследовательская широта, которая способна видеть настоящее как в перспективе, так и в ретроспективе. Такой взгляд предохраняет от чрезмерного оптимизма некоторых исследователей «третьего мира», которые порой спешат в своих оценках и прогнозах происходящего в развивающихся странах, основываясь на наблюдениях и анализе внешних, поверхностных сторон явлений.
Можно воспользоваться одним сравнением, хотя, конечно, всякое сравнение хромает. В индуизме и буддизме есть такое понятие — карма. Рождаясь, индивидуум уже несет в себе груз совершенного им в его прошлых перерождениях. Рациональный смысл этой идеи связан с бесспорными факторами наследуемости и социализации человека с точки зрения его генеалогии, воздействия семьи, близких, предшествующих поколений. В этом смысле можно, наверное, говорить об исторической карме целых народов, наций, их
92
культурно-историческом коде. Проходят века, иногда тысячелетия, а некоторые сущностные параметры жизни обществ продолжают действовать — кастовая дифференциация, религиозные институты, обряды, какие-то элементы политической культуры. Конечно, одновременно происходят и изменения, они могут затрагивать не только оболочку цивилизации, но и ее ядро. В каждом конкретном случае чрезвычайно важно выяснить, каково здесь соотношение нового и старого, традиционного и современного, ядра и оболочки. Только на такой основе возможна серьезная оценка происходящего и взвешенный прогноз.
С этой точки зрения представляется важной одна закономерность, выявленная как на индийском, так и на китайском материале. А именно: если в логическом, структурном плане система культурно-ценностных ориентации той или иной цивилизации является весьма жесткой, закрытой, то в реальной жизни она действует с допущением некоторого здорового элемента «лицемерия», которое позволяет ей реагировать на реальные общественные проблемы. Так, кастовая иерархия может нарушаться мотивами экономической борьбы, политической целесообразности, в случае бытовых конфликтов и т. д. Точно так же строгие формы конфуцианской субординации, отношений между старшими и младшими не мешают весьма широкой социальной и политической мобильности в обществе.
Такое соотношение между каноном и реальностью, по-видимому, свойственно всем цивилизациям, но проявляется оно по-разному. Скажем, в исламских обществах расхождений между сущим и должным допускается гораздо меньше, чем в индийской или китайской цивилизации. Не в этом ли заключается одна из причин различного характера и темпов модернизации в данных регионах и странах? Я не говорю о различиях социально-политической направленности модернизации (что имеет место в Китае и Индии), но во всяком случае ясно, что способность докапиталистических социокультурных структур к изменениям обусловлена не только теми или иными идеями или элементами, содержащимися в этих структурах (скажем, идеи долга, почитания старших, общинно-сти, этнической солидарности, которые столь успешно «работали» на модернизацию в Японии и «работают» сейчас в Китае), но и гибкостью добуржуазных ценностных установок, их способностью «растягиваться» под воздействием реальной действительности.
Сказанное хорошо подтверждает пример гандизма в Индии, который был более или менее затронут, пожалуй, только Д. Е, Фурманом. При первом взгляде на гандизм—мощное общественное течение, под флагом которого Индия завоевала национальную независимость,— поражает обилие в нем элементов традиционалистского характера. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что эти элементы тесно связаны с задачами модернизации, ее постепенным, «осторожным», поэтапным осуществлением в конкретных условиях (защита неприкасаемых, идея «социальной опеки» обеспеченных слоев над бедняками, призывы к демократическому диалогу и социальному партнерству в сочетании с тенденциями эгалитаризма и др.). Причем а деятельности самого М. К. Ганди хорошо просматриваются отмеченная выше «растяжимость» идейных установок, готовность приспособить их к интересам экономического, социального и научно-технического развития в своей стране. Именно это и обеспечило гандизму успех, именно это и объясняет его значение в жизни сегодняшней Индии.
Более того, значение гандизма — здесь мы говорим уже о влиянии Индии на остальной мир,— безусловно, выходит за национальные рамки. Дело не только в несомненном влиянии этого учения на ряд политических деятелей развивающихся стран. Дело в том что центральный принцип гандизма — принцип ненасилия—все более вписывается в проблематику нового политического мышления, перспективу (и необходимость!) мира без насилия и оружия в современных условиях. Это зафиксировано в Делийской декларации, документах движения неприсоединения. Я полагаю, что есть и другие направления, по которым восточные цивилизации с их богатейшим духовным наследием могут внести и внесут свой вклад в решение проблем мирового сообщества,— например, проблемы гармоничного сосуществования человека и природы.
Что касается воздействия Китая и его модели развития на современный мир, то оно также весьма заметно. Это влияние распространяется прежде всего на развивающийся мир. Оно было немалым еще в 50—60-е годы, а теперь, несомненно, возросло. Но дело не только в демонстрационном эффекте «четырех модернизаций» в КНР. Реформы в Китае — это важная веха в развитии мира социализма в целом. Как известно, социализм первоначально проложил себе дорогу в странах, более отсталых в социально-экономическом и культурном отношении по сравнению с европейским регионом. В этом была своя логика — в указанных странах, по ленинскому выражению, было «легче начать» ‘. Но зато в них было и труднее продолжать революцию, поскольку здесь социализм, помимо решения своих собственных задач, должен был также доделывать работу, не завершенную национальным капитализмом, по приобщению своих стран к индустриальной цивилизации.
По-своему такую логику исторической эволюции предвидели еще некоторые домарксистские социалисты, например, А. И. Герцен Он писал в письме к Эдгару Кине, что Запад и Россия пойдут к одной цели, но «не по одной дороге — вы (то есть Европа.— В. X.) пролетариатом к социализму, мы социализмом к свободе»2. Историческая проницательность Герцена заключалась, на мой взгляд, в том, что он рассматривал возможность перехода к социализму стран более отсталых, но более «легких на подъем» как естественную и исторически правомерную. Но он предвидел, что затем перед ними неизбежно встанут проблемы, связанные с невыработанностью демократических традиций, пережитками добуржуазной эксплуатации и внеэкономического принуждения, неразвитостью личности, ее поглощенностью в корпоративно-общинных структурах. Отсюда необходимость движения «к свободе» уже после социалистической революции, в рамках социализма и на его основе. Именно это и осуществляется и ходе перестройки в нашей стране. Сходный процесс идет в современном Китае И чем более успешно будет развиваться этот процесс, тем большее воздействие окажет он на остальной мир, особенно на социалистические и развивающиеся страны.
В целом Индия и Китай проявляют себя в современном мире как «действующие», жизнеспособные цивилизации и модели развития. Хотя эти страны идут разными путями, но обе имеют несомненную перспективу. Этот вывод, думается, вполне уместен как результат нашей дискуссии.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36,
стр. 10.
2 А. И. Герце н. Собрание сочинений.
Т. XVIII. М., 1959, стр. 469.



