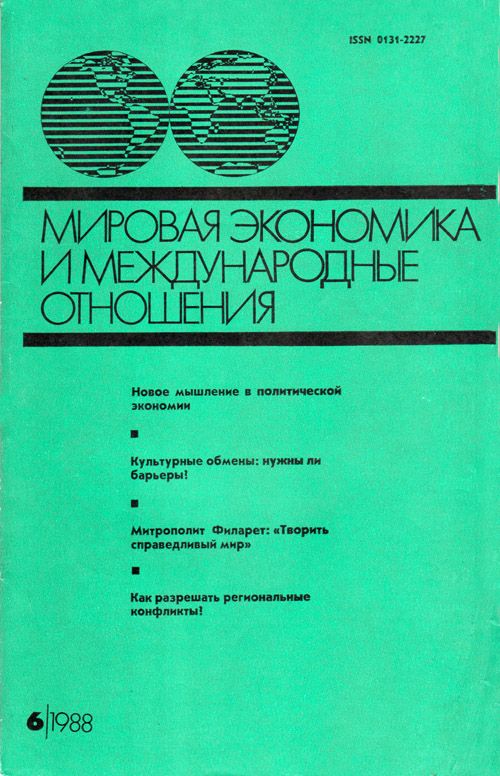 ИНДИЯ И КИТАЙ: ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ- ДВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ИНДИЯ И КИТАЙ: ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ- ДВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
Круглый стол «МЭ и МО»
ПРОДОЛЖЕНИЕ 6 1988 PDFфайлВ. Хорос: В ходе обсуждения уже выявилось достаточно спорных вопросов, в том числе при сравнительном анализе индийской и китайской цивилизаций. Что ж, расхождение позиций — вещь в науке нормальная, особенно когда речь идет о столь сложных и недостаточно изученных темах. Тем не менее проведенный обмен мнениями, как представляется, позволяет сделать вывод о глубокой внутренней устойчивости обеих цивилизаций, об их своеобразной социально-культурной гомеостатичности, равновесности. Можно говорить как о чертах сходства, так и о различиях между ними, если угодно — о разных основаниях данной устойчивости. Сказалось ли это как-то на процессе модернизации рассматриваемых обществ, соприкосновения их с внешним миром, тем более что характер такого соприкосновения был различным?
Л. Алаев: Судьбы Китая и Индии до XIX в. были и различны, и в чем-то общи. Можно поэтому спорить и о цивилизационных отличиях, и о фундаментальном сходстве. Что же касается нового и новейшего времени, то различия в их судьбах проступают явственнее. Китай сохранил независимость, а Индия стала колонией.
Ясно, что пути двух стран должны были разойтись.
Влияние Англии на развитие Индии было большим. Но колониальный период демонстрирует также, что государство, в том числе колониальное, не всесильно. Колониальная модернизация более радикальна по ряду направлений, чем полуколониальная, но и более поверхностна в плане влияния на массовое сознание.
Прежде всего «восточное» (или феодальное) государство было заменено современным. Я, конечно, не хочу сказать, что в Индию в конце XVIII — начале XIX в. была импортирована английская политическая система того же времени. Иногда сравнивают колониальное госу-
* Продолжение. Начало см № 4, 1988.
дарство с абсолютистским, и в этом есть резон, так как социальной опорой на первом этапе выступают два местных эксплуататорских класса — феодальный и пробуржуазный элементы, а правительство стремится к экономическому развитию (в целях обогащения иноземной буржуазии —• но это уже другой вопрос).
Государство стало новым уже потому, что ввело регулярную административную систему, современные институты контроля и подавления, судебную систему, кодифицировало право, решительно подавило феодальную вольницу и привычное беззаконие. Высшие эшелоны власти, представленные англичанами, были почти совершенно не подвержены коррупции. Pax Britanica — вполне определенное и признаваемое всеми понятие.
Государство скоро утратило «восточный» характер в еще одном отношении— оно перестало быть главным эксплуататором. Испокон веков наиболее солидным источником дохода в Индии считалось право на сбор земельного налога, который был необычно высок даже для Востока (до 1/4 валового сельскохозяйственного продукта). В течение XIX в. в результате введения англичанами новых земельно-налоговых систем налог стал относительно быстро понижаться и к концу колониального периода упал до 1 % валовой стоимости собранного урожая.
Однако постепенное фактическое упразднение государственно-феодальной эксплуатации открывало в то же время простор для развития прежних (с моей точки зрения — тоже феодальных) отношений на уровне общины. Конечно, происходила товаризация хозяйства, дифференциация и разорение землевладельцев, росла численность лиц наемного труда в сельском хозяйстве. Однако последние работы показали, что масштабы этих процессов прежде сильно преувеличивались. Преувеличение это можно объяснить, помимо желания исследователей выявить «прогресс», еще и тем, что за результат процесса принимали его исходную точку. В общем, сказалась слабая изученность традиционного социально-экономического строя.
88
Дело в том, что для Индии с древности характерны значительная концентрация земли (наследственных прав на пользование ею при условии уплаты налога) в руках каст, составляющих 20—30% населения, наличие развитой аренды, а также безземельного населения в деревнях — до 30% их жителей. Внутриобщин-ная эксплуатация, освобожденная от гнета сборщиков налогов, расцвела в стране пышным цветом, и, начиная с1859 г., вплоть до предоставления ей независимости, англичане издавали законы, призванные защитить арендаторов от роста ренты в пользу деревенских землевладельцев.
В. Хорос: Иначе говоря, процесс модернизации шел противоречиво. Демонтаж феодальной системы мог не только не «выводить» на буржуазные отношения, но даже стимулировать оживление традиционных, архаических, кастовых структур.
Л, Алаев: Пожалуй. Я не буду подробно описывать процесс взаимодействия аграрных законов и аграрного строя — кто и как пользовался возможностями, предоставляемыми арендным и другим законодательством. Достаточно отметить, что в результате всех этих мер, включая аграрную реформу 1950-х годов («отмену заминдари»), монополия ряда высших и средних каст на землевладение, социальное доминирование и политическую власть в сельской местности даже укрепилась. Сохранение межкастовых отношений господства — подчинения в деревне — это главный базис все еще существующих традиционных отношений и традиционного сознания в стране.
Несколько слов об аграрной реформе 50-х годов. Наиболее значительные изменения права собственности претерпели в Восточной Индии — в Бенгалии, Бихаре, Ориссе. В западных районах, по сути дела, прежние заминдары («землевладельцы») были переименованы в кисанов («крестьян»). Юг страны реформа почти не затронула, так как там не было за-миндаров. И вот оказывается, что там, где изменений в отношениях собственности, не произошло, капитализм развивается успешнее и процветает «зеленая революция», а где рентополучатели были ликвидированы, там сельское хозяйство осталось отсталым. Это еще один пример того, что дело не в отношениях собственности, а в организации хозяйства. Район Пенджаба, Харианы и западного Уттар-Прадеша — это район, где издавна собственник хозяйствовал на земле, а центральная и восточная часть долины Ганга — район, где собственник, даже мелкий, на земле не работал.
Еще одно важное направление модернизации — демократизация сознания, по крайней мере элиты. Сейчас, ища объя-яснений тому, что в Индии в отличие от многих других освободившихся государств успешно функционирует демократическая система, нередко и западные, и советские политологи ссылаются на британские реформы, вводившие в стране зачатки представительного правления (реформы 1909, 1919 и 1935 гг.). Влияние метрополии в целом на усвоение бывшей колонией «вестминстерской модели» вряд ли стоит отрицать, хотя этого влияния и недостаточно, чтобы объяснить специфику индийского политического строя. Достаточно упомянуть, что Пакистан, Бангладеш, Бирма имели примерно такое же институциональное наследство, полученное от колонизаторов, что и Индия, однако не сумели его сохранить.
Британское влияние, конечно же, налицо, но оно выразилось, по моему мнению, не столько в верхушечных реформах (с выборов1937 г. можно сколько-нибудь серьезно говорить о «привыкании» индийского избирателя к представительной системе), сколько в сформировании сравнительно свободной прессы, в том числе на местных языках, общей атмосферы борьбы мнений по поводу мелких и крупных внутриполитических вопросов, в возможности существования Индийского национального конгресса — сначала просто ежегодных съездов индийских интеллектуалов, а потом политической партии, наиболее важной функцией которой служили те же ежегодные съезды. Роль парламента, тренажера парламентаризма с 1885 по1937 г. играли не марионеточные советы при генерал-губернаторе и губернаторах, а затем, с1919 г.— бесправное Законодательное собрание, но сами заседания Конгресса, их организация и проведение.
В. Хорос: То есть модернизация поначалу была чисто верхушечной, элитарной.
Л. Алаев: Да, и это проявилось также в том, что довольно развитые, передовые мировоззренческие системы появились в Индии гораздо раньше, чем могли быть усвоены. А процесс усвоения сопровождался выхолащиванием из этих систем радикального содержания. Исследователи уже показали, что религиозная реформация в индуизме «развивалась» от более радикальных ко все более умеренным взглядам. Секулярный индийский национализм постепенно стал приобретать во взглядах Балгангадхара Тилака и Мохан-даса Карамчанда Ганди религиозную окраску, и этот процесс еще продолжается.
Так же «насаживаются» на традиционный индийский социальный строй формы капиталистического развития (создание «капиталистических монополий» на базе семейств и религиозных общин) и формы политического развития. Импортированная «вестминстерская система» с1937 г. стала эволюционировать в сторону приближения и приспособления к наличному уровню сознания и традиционным формам самоидентификации. Социальные общности, построенные на вертикальных отношениях патрон — клиент, факции, как их называют в Индии, стали кирпичиками, из которых складываются патронаты более высокого
89
порядка и в конечном счете политические партии. Борьба за интересы факций и патронатов лежит в основе их политического поведения, союзов и расколов. Идеологические лозунги играют все более символическую роль, чего-то вроде пароля, мантр (заклинаний), по которым узнают своих: содержание же их часто отходит на задний план. В Индии подспудно, а иногда весьма явно и бурно протекают этнические процессы, которые в свое время удерживались на уровне, характерном еще для средних веков.
В. Хорос: Мне кажется, Леонид Борисович, Ваш анализ модернизации в Индии убедительно подтверждает закономерность, наблюдавшуюся и в других развивающихся странах: продвижение по пути социального прогресса успешнее всего идет там, где оно «посажено» на наиболее фундаментальные ценности и институты добуржуаз-ной, доколониальной культуры. Это выглядит парадоксом, но на самом деле вполне естественно — никакой процесс развития не пойдет через слом национальной культуры (тем более тысячелетней цивилизации!). Напротив, он будет возможным только тогда, когда к нему будут «всерьез» подключены традиционные структуры сознания и поведения. Заимствуемые извне элементы (демократические идеи, парламентские институты, принципы хозяйствования и т. д.) должны быть приспособлены к сложившимся культурным нормам, иначе они просто не будут работать. Каким же образом, Леонид Сергеевич, этот синтез традиционного и современного происходит в Китае?
Л. Васильев: Прежде чем перейти непосредственно к Китаю, разрешите высказать несколько общих соображений. Неевропейский мир в эпоху колониализма был втянут в мировой рынок и стал подвергаться капиталистической модернизации — независимо от того, стала та или иная страна, как Индия, колонией или осталась, подобно Китаю, независимой державой. Здесь очень важно выявить и подчеркнуть генеральную закономерность, внешне выраженную в виде несколько неожиданной динамики политической позиции развивающихся стран. Суть этой динамики сводится к тому, что, столкнувшись непосредственно с политической экспансией капитала в XIX в. (до того колониализм имел преимущественно торговый характер и, за немногими исключениями, не проявлял себя в форме политических вторжений, хотя и вмешивался во внутренние дела ряда стран, а порой и создавал в них свои плацдармы), страны Востока, включая и Африку (это не касается лишь Латинской Америки ввиду условий ее колонизации), отчетливо осознавали свою отсталость и приниженность по сравнению с европейской промышленностью, наукой, культурой и вообще с цивилизацией Запада.
Представители этих стран, вначале лишь немногие, принадлежавшие преимущественно к правящей элите, стали активно и энергично перенимать западные ценности и усваивать элементы европейской цивилизации, явно ставя их выше собственных. Более того, политические реформы и даже массовые движения XIX в. в большинстве случаев носили модернизаторский характер и ставили целью вырвать ту или иную страну из пут отсталости и тем помочь ей сравняться в формах и уровне существования со все тем же Западом. Это хорошо видно на примере Индии или Ирана, очень заметно в Китае (тайпины, политика «самоусиления») **. Своего пика эти процессы достигли в начале XX в., в эпоху так называемого «пробуждения Азии», эпоху революций и попыток создания демократических республик и конституционных систем по западному образцу.
Как известно, из этих попыток мало что вышло — речь идет не о форме, а о сути. Сломить и преобразовать традиционные восточные структуры оказалось делом нелегким — тем более, что в критический момент они оказались способными мобилизовать для своего самосохранения такие силы, справиться с которыми было далеко не просто. Могущество упомянутых сил, как и их истоки, найти несложно: своими корнями они уходят в глубины истории, многовековую толщу культурной традиции. Отсюда и движения типа панисламизма в мусульманском мире, лозунги о возвращении к ведическим идеям в Индии и неумирающее влияние конфуцианства в Китае. В середине XX в. все эти и аналогичные им идеи и лозунги значительно окрепли и в условиях крушения колониализма обрели новую силу. Колониальный капиталистический Запад отступил и к тому же во многих отношениях проявил свою несостоятельность.
Создалась принципиально новая ситуация, выявившая как силу европейской науки, техники, цивилизации (все равно ее не превзойти, даже сравняться с ней практически невозможно — да и нужно ли?), так и слабости этой цивилизации (индивидуалистичность, бездуховность, погоня за материальным успехом на фоне крушения моральных принципов, отчуждение человека и т. д. и т. п.). Все это, да и многое другое, вызвало в развивающемся мире переоценку ценностей, великий возврат к истокам, смену ориентиров — словом, то, что в его наиболее последовательной форме приняло облик фундаментализма. Это и есть та генеральная закономерность, та всеобщая динамика, на фоне которой наиболее выпукло предстают события в странах Востока за последние сто — полтораста лет.
В. Хорос: И в современном Китае тоже?
Л. Васильев: Может быть, даже в особенности. Китай издревле славится высо-
** Имеется в виду политика централизованного государственного (казенного) строительства промышленных и особенно военных объектов (заводов, арсеналов, верфей и т. п.) в Китае во второй половине XIX в.— Ред.
90
кой культурой, дисциплиной, организованностью и организацией труда. Миллионы, сотни миллионов неутомимых тружеников под бдительным оком государства и его представителей веками создавали материальные ценности, немалая доля которых шла на цели престижного потребления верхов, а также создание величественных памятников и прославленных гигантских сооружений—от Великой Стены до дворцово-храмовых комплексов. Немало веков, даже тысячелетий насчитывает и история частнопредпринимательской деятельности, в сфере которой китайцы также весьма преуспели. Хотя в пределах централизованной империи они никогда не имели достаточного простора и необходимых возможностей, включая условия и гарантии для успеха: государство всегда доминировало над частником. Только вне Китая эмигранты-хуацяо смогли продемонстрировать истинные возможности и успехи в частнопредпринимательской деятельности.
Внутренних потенций для развития капитализма — речь не об отдельных элементах товарно-денежных отношений и торгово-ремесленного производства, даже не о предпринимательстве, но именно о капитализме, об обществе, основанном на господстве частной собственности с обслуживающим ее интересы государством — в Китае, как и на всем Востоке, во всем неевропейском мире, не было. Однако определенные предпосылки наличествовали, причем доказательством этого может служить развивавшаяся преимущественно в русле китайско-конфуцианской традиции Япония, о которой речь впереди.
В. Хорос: Но все-таки основной импульс модернизации шел извне.
Л. Васильев: Безусловно. С внешним миром, точнее, с Западом, китайская империя соприкоснулась еще в XVI в. Проникшие в страну миссионеры-иезуиты принесли с собой немалую толику европейской материальной культуры — от огнестрельного оружия западного типа до часов и астрономических приборов, не говоря уже о христианских идеях, не нашедших, впрочем, благодатной почвы для широкого распространения. Позже Китай был надолго закрыт от внешних влияний. Только в результате печально известных опиумных войн в середине XIX в. он был открыт для колониальной торговли, а затем и для энергичного проникновения иностранного капитала. Собственно говоря, с этого и началась эпоха кризиса империи, завершившаяся в1911 г. ее крушением.
На протяжении десятилетий западные ценности, хотя и встречали порой отчаянное сопротивление народа (движение ихэтуаней на рубеже XIX—XX вв.), все же закреплялись в Китае, подрывая традиционные структуры как в сфере экономики, так и еще более в сфере идеологии. Оказавшись в положении униженных — и кем? какими-то западными варварами, заморскими дьяволами, владевшими неведомой китайцам техникой и наукой, но не знавшими ничего в области человеческих отношений, норм поведения, китайского церемониала (кто же они после этого, как не жалкие варвары?!),— правители Поднебесной попытались было исправить положение, заимствуя кое-какой чужой опыт. Китай рационалистичен и внутренне подготовлен к заимствованию полезного опыта (снова стоит напомнить о Японии). Но ему при этом сильно мешали тысячелетние амбиции, непомерная гордыня, чувство собственного превосходства и, наконец, жесткость структуры, неповоротливость мощной государственной машины с ее чиновничеством, воспитанным на традициях и превыше всего ценившим прошлое.
И вот рухнула империя. В стране — революция. Сунь Ятсен и его партия Гоминьдан создали республику. Казалось бы, вот оно, время для плодотворного, активного и быстрого заимствования, наращивания темпов развития, для модернизации страны и развития в ней капитализма. Но не тут-то было! Революционеры во главе с Сунь Ятсеном не стремились ни к активному заимствованию западных стандартов, ни к быстрому развитию капитализма по европейскому образцу. Если внимательно взглянуть на их лозунги (три принципа) и тем более на практическую деятельность Гоминьдана в 20—40-х годах нашего века, то легко заметить, что, хотя капитализм в Китае и развивался, его развитие во многом было иным, чем на Западе.
В. Хорос: Это развитие было принципиально иным? В чем же заключалось различие?
Л. Васильев: Кардинальное различие состояло в том, что капитализм насаждался как бы сверху, поощрялся государством, державшим в своих руках основные отрасли хозяйства страны, крупнейшие предприятия. Это был государственный капитализм. На долю частного предпринимательства оставались мелкие предприятия и второстепенные сферы экономики. В сельском хозяйстве, продолжавшем быть основой национальной экономики, существовали традиционные отношения между государственной казной и землевладельцами. Немного нового возникло и в области социально-политической, хотя внешне революционные изменения были налицо Существовал парламент, была принята конституция, провозглашено разделение властей. Но фактически страной по-прежнему управляли те, кто имел реальную власть и опирался на нее, прежде всего генералы-милитаристы со своими региональными армиями. Управляли каждый по-своему, но в целом в соответствии с моделью, о которой я только что упоминал и которая генетически была тесно связана с традицией. Автоматически срабатывал веками отлаженный и мощный социальный генотип. Даже конфуцианство, не признанное парламентом в качестве официальной доктрины, продолжало не только оказы-
91
вать влияние на людей, их сознание и поведение, но и задавать тон в жизни общества и государства.
Существенно ли изменилось положение с приходом к власти коммунистов? Принято считать, что да. Действительно, при Мао Цзэдуне в Китае многое изменилось, причем весьма радикально. Прежде всего перемены затронули социальную структуру. Официально были отброшены не только конфуцианство, но и буржуазные идеологические доктрины. Была ликвидирована частная собственность, экономика страны поставлена под контроль государства, система управления которым реорганизовывалась во многом по советской модели. Снова могло показаться (и долгое время действительно казалось!), что Китай решительно порвал с прошлым, что структура его кардинально обновилась, что строящий социализм восточный гигант ориентирован в основном на будущее и очень мало связан с традициями официально осужденного и даже заклейменного им прошлого. Но так ли это было на самом деле?
Движущей силой китайской революции было крестьянство. Мощные народные движения для Китая не внове, в них отражалась заинтересованность консервативно настроенного крестьянства в сохранении статус-кво, то есть своего стабильного и гарантированного государством существования. Выступая нередко под даосско-буддийскими лозунгами, пропитанными эгалитарными идеями, восставшие крестьяне отнюдь не стремились сломать существующую систему — они хотели лишь восстановить нарушенную кризисными явлениями норму. Такой в принципе была ситуация в стране и в годы революции. И хотя вооруженный социалистическими идеями Мао, оказавшись вождем революции, видел свою цель именно в сломе существующей системы и в замене ее иной, построенной на началах эгалитаризма, реалии традиционного социального генотипа не могли не дать о себе знать. С особой очевидностью это и проявилось в годы социальных экспериментов Мао, когда поднятая им на дыбы великая страна лишилась привычных форм существования, будь то индивидуальное хозяйство земледельца или хотя и контролируемый, но жизненно важный для нормального функционирования экономики рынок. Доведя эгалитаристские идеи до абсурда, революционный экстремизм завел Китай в тупик, выход из которого всегда один — назад.
В. Хорос: Но ведь и «культурная революция» происходила вполне в духе китайской традиционности, если иметь в виду периодические крестьянские восстания, освящаемые принципом «смены мандата» (гэмин).
Л. Васильев: Да, но эти возмущения снизу образуют как бы одну часть исторического зигзага, другой частью которого является восстановление нарушенной нормы. Именно такое отступление, то есть восстановление привычной нормы, пусть теперь в ином, социалистическом, варианте и означали реформы, осуществленные в Китае после Мао и сыгравшие огромную роль в обновлении и оздоровлении страны. Земля снова была отдана работающему на ней крестьянину, а товарно-денежные отношения, рынок опять стали регулировать внутрихозяйственный процесс, разумеется, при строгом государственном контроле и сохранении в руках государства ключевых экономических позиций, что всегда было нормой для китайского общества. Конечно, государство теперь уже не то, но функционально оно очень близко к традиционному, как близок многомиллионный отряд кадровых работников — ганьбу к традиционно управлявшим Китаем шэныпи, близок опять-таки не идейно, а именно институционально, функционально.
В общем, социальный генотип и здесь заявил о себе. Структурно социалистический Китай (правда, его руководители все время настаивают на том, что по пути социализма он делает только первые шаги — и в этом немало от суровой истины) оказался весьма близок к прошлому. И было бы наивно ожидать чего-то иного. Ведь для кардинальной трансформации общественной структуры недостаточно харизматического влияния вождя и провозглашения новых отношений. Нужны были подготовленность структуры к ломке, хотя бы сколько-нибудь существенная ее модернизация. Китай середины XX в. ничего этого еще не имел, а его многотысячелетняя традиция была сильнее, чем где бы то ни было. И это при всем том, что предпосылки для ломки структуры именно в китайско-конфуцианской традиции-цивилизации были едва ли не наиболее сформировавшимися, что демонстрируют как современный Китай, так и некоторые другие страны, исторически оказавшиеся в сфере влияния китайской цивилизации.
В. Хорос: Вы, очевидно, имеете в виду и Японию?
Л. Васильев: В первую очередь именно ее. Как и античная Греция, Япония в истории человечества — феномен практически уникальный, неповторяющийся. Конечно, в наши дни можно насчитать ряд государств, прежде всего опять-таки в дальневосточном регионе, которые идут примерно по тому же пути. Но это в наши дни, когда условия в мире радикально изменились, когда развивающийся мир все более интенсивно втягивается в мировое капиталистическое хозяйство. Иные условия были столетие тому назад, когда пробил час Японии.
Почему же именно она? И отчего она? На эти вопросы удовлетворительного ответа пока не дано. Но немало сделано для того, чтобы все же как-то объяснить феномен Японии. Исторически она — периферийная часть зоны влияния китайской цивилизации. И хотя буддизм и синтоизм как религии там явно преобладали, китайско-конфуцианские традиции, подчас в несколько трансформированном и приспособленном именно к японским реалиям виде, во многом определили облик страны.
92
Первое, что пришло и укрепилось в Японии вместе с китайским влиянием,— это дух патернализма, жесткая привязанность младших к старшему, нашедшая наиболее полное отражение в духе бусидо, культе самурайской этики. Жесткий регламент патерналистско-самурайских связей в Японии принял характер патронажно-клиентельных отношений в гораздо большей мере, нежели то было в Китае с его сильным государством. Второе, что генетически восходит к китайской цивилизации,— это высокая культура труда, его дисциплина и организованность, частично тоже связанные с патерналистскими традициями, обусловленным ими жестким регламентом поведения. Кроме того, в Японии было то, что отсутствовало в Китае, и не было того, что мешало ему быстро и эффективно осуществить модернизацию.
Прежде всего не было столь сильного государства с развитой гражданской бюрократией. Альтернативой была военная сила сегунов и князей, опиравшихся на преданных им самураев и покровительствовавших «своим» (включая «свои» города), что создавало определенные условия для экономического развития (нечто подобное союзу королей с городами в позднесредневековой Европе). Существовали даже города с гарантированными им правами, привилегиями, льготами. Во-вторых, на протяжении веков сформировалась способность к плодотворному заимствованию чужой культуры. Неудивительно, что первый контакт с европейскими колонизаторами и миссионерами, хотя он вскоре после XVI в. тоже, как и в Китае, был пресечен властями, привел к совершенно иным последствиям. Японцы в целом терпимее отнеслись к проповеди христианства (эту религию официально приняли некоторые князья, заинтересованные в расширении связей с европейцами) и активнее стали воспринимать европейскую науку и технику (в Японии она длительное время именовалась «голландской наукой»).
Уникальное сочетание благоприятных обстоятельств: высокой культуры труда и санкционированной конфуцианской этикой системы патронажно-клиентельных связей, социальной дисциплины при сравнительной слабости государства и бюрократии, навыков охотного заимствования чужого опыта,— все это наряду с некоторыми другими факторами позволило Японии быстро модернизироваться и в конечном счете дать всему миру единственный в своем роде пример блестящего синтеза восточной традиции с западным капитализмом (в самом широком смысле этого слова, то есть включая западную науку и технику, многие элементы выработанного европейской цивилизацией «гражданского общества» и т. п.).
В. Хорос: Феномен Японии уникален, как, впрочем, неповторим в определенном смысле и феномен Китая. Но в чем разница?
Л. Васильев: Китай все еще сильно скован традицией. Социализм, функционально приспособившийся к китайским реалиям, не сломал традиционную структуру. В некотором смысле он, как я уже отмечал, даже укрепил ее основы. Япония же решительно разорвала путы традиции еще в прошлом веке, но многое от нее все же осталось. Осталось то, что помогает новой, капиталистической структуре, что сглаживает противоречия, свойственные капитализму, проявляющиеся в отчуждении, упадке моральных стандартов, пренебрежении к духовным началам в пользу материальных и т. п. Более того, благодаря этому свойству традиции японский эталон развития по многим параметрам становится ныне оптимальным, превосходящим европейский и американский. Сохраняющиеся элементы патернализма укрепляют экономические связи и препятствуют углублению социальных противоречий; отсутствие давних традиций гражданских свобод затрудняет глубокое осознание социально-классовых противоречий и тоже способствует упрочению гражданского мира в стране.
В целом возникает эффект гармоничного синтеза традиции и современности, а экономические успехи при социально-политической стабильности и ориентации на гармонию по-конфуциански придают данному эффекту дополнительную силу. К сказанному можно добавить, что отсутствие укорененных традиций гражданских свобод не мешает проявлению индивидуальной и частнопредпринимательской инициативы в условиях современной Японии. Это опять-таки не противоречит китайско-конфуцианской традиции: жесткие нормы патернализма всегда содействовали процветанию принципа меритократии (преуспевающий младший быстро становится в ряды старших, если не по возрасту, то по общественному положению, должности).
Итак, в одном случае (Китай) налицо сильное давление несломанной традиции, в другом (Япония) — реформированная традиция используется во благо новой структуры. Такие метаморфозы могут показаться парадоксальными. Ведь принято считать, что именно социализм как общественный строй разрушает отношения, свойственные эксплуататорско-анта-гонистическим системам, тогда как капитализм — лишь одна из таких систем. Иными словами, с позиции принятой теории разрушиться должна была китайская структура, а сохраниться японская. Сознаю, что принять противоположную точку зрения нелегко: мешает тяжелый груз догматических представлений. Но я не только настаиваю на вышесказанном, но и в известном смысле беру его за основу, опираюсь на него при анализе как современной ситуации, так и будущего.
В. Хорос: Леонид Сергеевич, безусловно, сопоставление японского и китайского вариантов чрезвычайно интересно, но все-таки наша тема — Индия и Китай. Вряд ли
93
мы даже приблизительно завершили сравнительный анализ модернизаций в этих странах. Например, почти ничего не говорилось об ее экономических аспектах. Не пора ли вам, Виктор Леонидович, включиться в разговор?
В. Шейнис: Я пока ограничусь констатацией наиболее очевидных результатов экономического развития обеих стран в послевоенный период. А более общие соображения, возникшие у меня в ходе нашей дискуссии, я хотел бы высказать позднее.
На «старте», в1950 г., рассматриваемые страны были в достаточно сходном положении. Подавляющую часть валового продукта давало и подавляющую часть населения занимало сельское хозяйство (по разным оценкам, от 70 до 80%). Производительность аграрного сектора в Китае была несколько выше, зато Индия имела более развитую и диверсифицированную промышленность. Сопоставление обеих стран по валовому продукту на душу населения может быть проведено лишь с большой долей условности, так как исчисляется он в Индии и Китае на основе разной методологии. И все не большинство расчетов сходится в том, что в1950 г. соответствующие показатели сравниваемых стран были весьма близки друг к другу и составляли 55— 65% по отношению к среднему показателю развивающихся государств. Норма накопления в обеих странах в начале 50-х годов составляла около 10%.
Через 30 лет соотношение основательно изменилось. Китай раньше поднял норму накопления до 25 и даже 30% (то есть до уровня, на который Индия никогда не выходила) и сделал больший упор на промышленное развитие. Темпы общехозяйственного роста, несмотря на серьезные социальные потрясения, в целом за период были здесь более чем в два раза выше, чем в Индии. В результате возник разрыв в валовом продукте на душу населения примерно в 2,3—2,5 раза: индийский показатель снизился до 1/3—1/2 среднего показателя «третьего мира», а китайский — повысился до этого среднего уровня, обогнал Шри-Ланку и стал в один ряд с Таиландом и Филиппинами.
Казалось бы, эти данные говорят в пользу государственно-централизованного хозяйства, которое сумело мобилизовать ресурсы и форсировать рост современной экономики. Не будем, однако, торопиться со столь категорическим заключением. По важнейшим структурным экономическим показателям обе страны принадлежат к одному и тому же классу развивающихся государств, хотя одна из них по доходу на душу населения открывает, а другая — замыкает список. И в Китае, и в Индии в сельском хозяйстве по-прежнему занято порядка 70% самодеятельного населения и производится сопоставимая часть валового продукта — 23—28% и 33—37% соответственно. По доле городского населения Китай несколько обогнал Индию, но обе страны сильно отстают даже от среднего показателя «третьего мира»: 25,7; 22,6 и 33,2% в1980 г. соответственно. Иными словами, в рассматриваемых странах развитие носило резко поляризованный характер и происходило почти исключительно за счет современного сектора, основной сферой которого (по крайней мере до начала 80-х годов) была городская экономика.
В одном отношении, правда, модернизация в Китае шла более успешно, чем в Индии: демографическая политика здесь дала больший эффект. Различие в среднегодовом темпе прироста населения за весь период 1950—1986 гг. не очень велико: 1,8% в КНР и 2,1% в Индии, но динамика демографического роста была разнонаправленной. В Индии рост населения сначала ускорился, затем стабилизировался и лишь в 80-е годы несколько замедлился (до 2,1%), в Китае же он понижался от десятилетия к десятилетию, пока в нынешнем десятилетии не сравнялся с уровнем развитых стран (1,2% в год).
Не только в Индии, но и в Китае основная масса населения вносила весьма скромный вклад в прирост производства и столь же слабо ощущала его плоды. Прирост в обеих странах поддерживал беспрецедентное в их экономической истории наращивание нормы накопления (в результате капиталоемкость производства вышла, вероятно, за рациональные границы), значительное увеличение доходов распорядителей производства — государственного аппарата и расширяющегося буржуазного слоя в Индии, многомиллионной армии ганьбу (чиновничества) в Китае, а также известное увеличение достатка трудящихся, которым посчастливилось войти в структуры современного сектора. При этом ресурсы, истраченные на поддержание величия и укрепление военной мощи государства, на колоссальный госаппарат, контролирующий и организующий общественные процессы, в Китае были относительно едва ли меньше, а в абсолютном выражении даже больше того, что ушло на элитарное потребление в Индии. Результаты экономического развития Китая, хотя и более внушительные, чем в Индии, крестьянином где-нибудь в Сычуани или Синьцзяне ощущались, вероятно, ничуть не больше, чем его собратом в Бенгалии или Ассаме, а социальное положение того и другого проходило, хотя и по разным причинам, полосы резкого ухудшения.
И все же послевоенный экономический рост в обеих странах создал значительную материальную базу, которая при надлежащем ее использовании может в немалой степени способствовать общественному прогрессу. Можно ли ожидать «надлежащего использования»? Ответ на этот вопрос ни в коей мере не предопределен, а вероятностен, ибо зависит не только от постоянно действующего фактора традиции, но и от множества непредсказуемых обстоятельств, возникающих в ходе современного развития.
94
В. Хорос: Итак, мы подходим к третьей фазе нашего обсуждения — оценкам будущего. Может быть, и на этой стадии дискуссии попросим начать Леонида Борисовича?
Л. Алаев: Я вообще-то не очень люблю делать прогнозы. Поэтому скажу только о том, что связано с социально-культурными константами индийской цивилизации. Некоторые ее особенности, как мне представляется, прежде всего иерархическая структура, связанная с кастовой системой, благоприятствуют процессу модернизации. Сейчас индийское общество осваивает современную технику, рациональные формы хозяйствования, демократические нормы общения и институты. Время на всю эту притирку и вызревание предпосылок будущего гражданского общества пока есть: сохранение традиционного социального строя обеспечивает вполне приемлемый уровень социальной стабильности. Видимо, лишь продолжающимся господством кастового сознания («каждому—свое») можно объяснить то, что классовые конфликты не обостряются, что люди не бунтуют, даже находясь в нечеловеческих, с нашей точки зрения, условиях. Сохранение высокой доли неграмотности (2/3 населения), низкий по сравнению с другими развивающимися странами уровень и темп урбанизации являются показателями уровня развития. Но надо посмотреть на эти показатели и как на симптомы более глубокой реальности: люди все еще социально закрепощены, все еще привязаны к своей общине и касте, где им не нужны новые горизонты и умение читать и писать.
Однако данное обстоятельство имеет определенные благотворные последствия. Если бы индийский традиционный образ мыслей разрушился, то в Индии произошел бы грандиозный социальный катаклизм, сравнимый с десятью Иранами. Если каждый индиец будет думать, что он ничем не хуже другого и потребует свою долю, то это, возможно, будет значительный социальный прогресс, но в экономическом и политическом отношении страна будет отброшена на столетие назад.
В. Хорос: Как говорится, всему свое время— в том числе социальному и политическому эгалитаризму.
Л. Алаев: Вот именно. А пока в Индии существуют как бы две страны. Одна из них передовая. Говорят, что в современном секторе занято около 1/3 населения. Я думаю, что это завышенная цифра, результат оптимистического забегания вперед. Надо сделать замечание, что переоценка развития — постоянная болезнь исследователей и политических деятелей, изучавших и изучающих колонии, полуколонии и развивающиеся страны. Много раз признавалось, что оценки развития, сделанные ранее, были завышены. Но неизменно вновь и вновь исследователи впадают в оптимизм. В частности, всем известно, что многие работающие по найму, полунищие «бизнесмены» и чиновники живут, по существу, еще в традиционном мире, однако их зачисляют в «современный сектор». По моей оценке, в современной Индии живет не более 100 млн. из 700 млн., и главное, что процентное соотношение этих чисел почти не меняется. И эти 100 млн. сравнительно спокойны и верят в демократию и прогресс, потому что они делят между собою (конечно, не в равных долях) все выгоды, проистекающие из экономического развития, а остальные 600 млн. почти ничего не получают.
Возможно, что индийский вариант модернизации окажется очень удачным — если темп пробуждения масс останется столь же низким до того времени, когда откроются новые, неизвестные сейчас перспективы. А, может быть, политическая активность масс станет расти по экспоненте. Тогда единственной альтернативой останется установление «индусской» диктатуры во главе со святым.
Впрочем, сейчас этой альтернативе препятствует не только «благоприятное» сочетание образа жизни и пассивности масс, но и неготовность к этой роли индуизма. В отличие от ислама индуизм не сплачивает, а разобщает массы, не может служить знаменем их мобилизации, потому что многолик, и любой выдвинутый им лозунг будет не только привлекать, но и отталкивать. Даже лозунг защиты коровы, наиболее приемлемый для цели мобилизации индусских масс, отталкивает часть неприкасаемых. Попытки создания нового, боевого, политически пригодного индуизма делаются давно. Он даже существует — противники называют его коммунализмом. Но последний пока не может овладеть массами по тем же причинам, о которых уже говорилось,— из-за своего излишнего эгалитаризма, неприемлемости для традиционного сознания.
В. Хорос: Леонид Сергеевич, ну а куда, как вы считаете, идет Китай на фоне остального мира, прежде всего развивающегося?
Л. Васильев: Давайте для начала расставим необходимые акценты. Как и куда идет современный мир и прежде всего развивающиеся страны, составляющие его большинство? Что такое капитализм и что такое социализм с точки зрения все тех же развивающихся стран, поставленных историей, казалось бы, именно перед такой альтернативой — капитализм или социализм?
В свете представляемой мною концепции очевидно, что капитализм — детище античности, формация с наивысшим уровнем развития и господства частнособственнических отношений и с такой организацией общества и государства, которая целиком поставлена на службу частной собственности и функционирует во имя ее процветания (что, разумеется, не исключает существования некоторых форм коллективной и государственной
95
собственности, функционирующих, однако, во имя блага все того же общества, в котором частная собственность признается наивысшей ценностью). Кроме Японии, где такого рода структура вытеснила существовавшую прежде, остальные страны неевропейского мира по-прежнему остаются в рамках иной структуры, где частной собственности всегда отводилось второстепенное место, а государство выступало и в функции собственника (власть-собственность), и в качестве господствующего класса. Для них стать капиталистическими — значит прежде всего сломать традиционную структуру (что и было сделано в Японии). Легко ли этого добиться?
Что такое социализм, если говорить не о высокой теории, а о ее практической реализации? Очевидно, что возникнуть этот строй практически мог лишь на одной из двух различных структур — на европейской или неевропейской. Сразу оговоримся, что Маркс создавал теорию для первого случая. Европейский социализм виделся ему как преодоление капитализма, но при непременном сохранении всех тех основ гражданских свобод и прав, которые ведут свое происхождение с античности.
Вне Европы подобных основ не существовало (вопрос о России — особый, она издревле была на стыке Запада и Востока, но восточное начало в ней, на мой взгляд, все же преобладало). Так на какой же базе должен был создаваться социализм там? Ведь не на пустом же месте ему было формироваться? Неудивительно, что в восточных обществах он базировался на структурах с «государственным («азиатским», по Марксу) способом производства» и тесно связанными с ним идеями и институтами. И хотя вместе с идеями социализма (а подчас и раньше) на Восток пришли и сформировавшиеся в лоне европейской цивилизации представления о гражданских правах, свободах, демократических процедурах и т. п., все эти институты, оказавшись на неевропейской почве, неизбежно должны были поблекнуть, если не завянуть вовсе. Им не было места в иной по типу структуре, структуре авторитарной, с явным преобладанием авторитета государства и аппарата власти.
В. Хорос: Не означает ли сказанное Вами, Леонид Сергеевич, что в неевропейских восточных структурах нет места не только капитализму, но и социализму?
Л. Васильев: Это означает, что если капитализм мог свободно и целиком реализовать себя лишь в рамках одной структуры (другую следовало для этого предварительно сломать и заменить первой), то социализм в принципе мог возникнуть на базе любой из них. При этом на Западе это был (бы) западный социализм, а на Востоке — восточный. И разница между ними отнюдь не в дефинициях. Отличия — в моделях, которые, в свою очередь, определяются несходством структур. О западной, европейской моде-
96
ли трудно сказать что-либо определенное: диапазон ее реализации довольно широк — от Швеции до Югославии. В любом случае главное здесь в том, что общество осуществляет контроль над государством. Остальные известные истории модели социализма — восточные. Тут уже государство доминирует над обществом. Именно это и является их слабостью, то есть тем, что мешает развитию, нуждается в перестройке.
Китай после Мао одним из первых осознал необходимость такой перестройки, причем стал осуществлять ее быстро и успешно. Этому, как ни парадоксально, помогли эксперименты Мао, загнавшего страну в тупик и во многом разрушившие ее структуру, уничтожившие силу бюрократического аппарата страны. На этой основе Дэн Сяопин сумел сравнительно легко перестроить экономику, а вслед за тем взяться и за перестройку социальных отношений и форм власти. И хотя традиционная структура в Китае все еще не разрушена, многое сделано для того, чтобы сломать ее. Если Китай и далее будет идти по избранному пути (а есть основания полагать, что это будет именно так), то можно с уверенностью предположить, что его традиционная структура будет вскоре трансформирована. Каким же станет Китай в таком случае?
И вот здесь, в этом пункте, следует обратиться к феномену Востока в целом. Объединяемый при всем его многообразии неевропейской структурной основой, он предстает в своем развитии как необычайно широкий диапазон вариантов. Все эти варианты можно выстроить не в ряд, а расположить в виде дуги (уж очень различны составляющие его страны, чтобы ставить их даже для наглядности в ряд,— дуга точнее). При этом концы дуги можно обозначить двумя точками, одна из которых — Япония, другая — Китай. Или, если хотите, одна — стопроцентный, да еще едва ли не наиболее процветающий в мире капитализм, другая — решительно и самостоятельно осуществляемый социализм.
В. Хорос: Леонид Сергеевич, с общетеоретической точки зрения, Ваша позиция, вроде бы ясна: существует множество вариантов или моделей развития. Ну, а с конкретно-исторической точки зрения как обстоит дело? Имеют ли все эти модели одинаковые возможности для реализации и, так сказать, одинаковые виды на будущее?
Л. Васильев: Действительно, теоретически, как я уже сказал, диапазон вариантов необычайно широк. У меня нет возможности браться охарактеризовать все эти варианты (да и нужды в этом, видимо, нет). Существенно важно выделить основные из них и то, что определяет их сегодняшний статус и перспективы. Есть страны, тяготеющие к японской модели — но их очень немного. Есть близкие к китайским — их тоже мало. Остальные располагаются между ними. Главное в том, что традиционно неевропейские страны тяготеют к уже описанной модели сильного государства. Однако они отчетливо сознают, что эта модель при слабости частной собственности и рынка чревата экономической неэффективностью, не говоря уже о коррупции и иных злоупотреблениях. В то же время отдаться стихии капиталистического рынка при ослабленном государстве и отсутствии необходимых традиций, веками воспитывавшихся у европейцев представлений о правах, свободах, гарантиях и т. п. значит оказаться на грани хаоса, если не катастрофы. Иными словами, не сломать традиционную структуру — значит оставаться отсталыми, пытаться разрушить ее — значит рисковать слишком многим, особенно при отсутствии необходимых для этого предпосылок. Базы же, не считая нескольких дальневосточных и латиноамериканских государств (к ним частично можно отнести и разбогатевшие на экспорте нефти страны вроде Саудовской Аравии или Кувейта), нигде нет. Как же быть?
В. Хорос: Раз история, реальная жизнь выдвигает проблему, ставит задачу, то должно найтись и решение. И, как правило, не одно решение, несколько путей и вариантов сообразно с особенностями отдельных стран или регионов.
Л. Васильев: Совершенно верно. Путь первый — медленное и постепенное создание необходимых предпосылок. Собственно, именно этим путем и идут многие развивающиеся страны. Однако на их пути так много сложностей (начиная от недостаточной культуры труда и общей культуры и кончая неразвитостью европейского типа гражданских прав и свобод и, более того, резким противостоянием этим элементам европейской цивилизации местных традиций, религиозных принципов), и продвигаются они вперед столь медленно, что о сломе структуры и создании новой в большинстве случаев вести речь пока не приходится. Другими словами, успехи есть, но они еще столь незначительны и так безрадостны на фоне достижений развитых стран, что всерьез говорить о складывании структуры, соответствующей и дающей возможности для энергичного капиталистического развития, не приходится.
Путь второй — более или менее решительный отказ в принципе от создания условий для трансформации структуры. «Нам и так хорошо», «мы довольны нашими традиционными порядками» — примерно так звучат лозунги весьма влиятельной ныне в развивающемся мире, особенно на Востоке, социально-идейной прослойки религиозных фундаменталистов, воздействие которых на общественное сознание своих стран все растет.
В. Хорос: Вы имеете в виду, конечно, прежде всего культурно-исторический ареал распространения ислама. Впрочем, возможно, вы и правы — неотрадиционалистская, фундаменталистская реакция, хотя и в разных формах, является общей тенденцией для многих ныне развивающихся стран. В последнее время она стала даже заметней. Как Вы полагаете, почему?
Л. Васильев: Во-первых, потому, что радужные иллюзии времен деколонизации рассеялись, а проблемы оказались сложнее, чем предполагалось. Не только догнать развитые государства, но и остаться на прежней дистанции от них теперь уже для большинства развивающихся стран нереально. Стоит ли в этих условиях напрягаться? Не лучше ли пересмотреть стратегию развития и по-новому оценить добрые, привычные и в общем-то удовлетворительные для многих стран порядки? И рассчитывать при этом, естественно, на помощь более богатых… Во-вторых, потому, что старая структура не просто сопротивляется ломке, но и, мобилизуя все новые возможности, переходит в наступление. Демографический взрыв — ее порождение и ее сила. Долговая кабала . при безнадежности когда-либо из нее выбраться — тоже ее наследие и ее сила. Неумение работать так, чтобы удовлетворять все растущие потребности за счет повышающейся производительности труда,— на мой взгляд, тоже фактор, сформированный старой структурой и соответствующий ей и вековым традициям.
Вариант этого второго пути — попытка избрать социалистическую ориентацию. Речь при этом идет чаще всего примерно о том, о чем уже говорилось в связи с Китаем времен Мао. Благоприятных результатов в смысле экономических успехов данный выбор не обещает, во всяком случае, до тех пор, пока рынок и товарно-денежные отношения ограниченны в своих возможностях (а они в такого рода случаях чаще всего ограниченны вследствие крайней отсталости и необходимости государственного регулирования потребления).
Итак, два пути — разрушать традиционную структуру и не разрушать. Легко заметить, что первый тяготеет к японской модели, второй — к китайской. Вот здесь-то и нужно снова вернуться к Китаю и к его модели. Да, пока еще традиционная его структура не сломана. Но в том-то и суть, что в ходе модернизации и демократизации, в ходе современной перестройки эта структура зримо ломается.
В. Хорос: Но тогда резонно ли типологически ставить во главу развивающихся стран, не стремящихся разрушать свою структуру, именно Китай, все же ломающий ее?
Л. Васильев: Безусловно, да. Только нужно пояснить, что имеется в виду. Дело в том, что и в прошлом, в древней и средневековой истории, существовали общества с промежуточной по характеру структурой. К их числу принадлежала, скажем, Финикия. Длительное время эволюционировали от одной структуры к другой христианизированные германские общества европейского средневековья, а также ряд славянских государств, включая Россию. Правда, само существование
97
промежуточных обществ (то есть с наличием заметного количества элементов европейской структуры, способствовавших более или менее ускоренному и беспрепятственному развитию частной собственности и частнопредпринимательской деятельности) еще ни о чем не говорит. Только при накоплении своего рода «критической массы» упомянутых элементов может произойти трансформация структуры. А этому всячески препятствовала господствующая в неевропейской структуре система власти, «государственный способ производства». Собственно говоря, об этих предпосылках применительно к Китаю или Японии шла речь выше: здесь они существовали, могли способствовать процессу трансформации и даже в случае с Японией сыграли свою роль, но случай этот был уникальным. Нормой же стало сохранение традиционной структуры.
В эпоху колониализма, когда мир оказался втянутым в орбиту влияния капитализма, возникла новая и принципиально иная ситуация, приведшая в XX в. к тому, что количество элементов еврока-питалистической структуры во всех неевропейских странах начало быстро возрастать, что заметно трансформировало, а кое-где и заметно подтачивало старую структуру. Но традиционная структура не спешила уйти в прошлое. Напротив, мобилизовав немалые внутренние потенции, она перешла в контрнаступление, которое в наши дни привело к определенному успеху, о чем уже шла речь. Надломленная, кое в чем измененная, сильно обогащенная новыми, качественно иными элементами, традиционная структура тем не менее в подавляющем большинстве развивающихся стран осталась ведущей и системообразующей. Это произошло, в частности, и в Китае. Но Китай в интересующем нас смысле — случай особый.
Революция в принципе не приемлет компромиссов; ее внутренняя логика ведет, как правило, к революционному экстремизму, сопровождаемому гражданской войной, уничтожением инакомыслящих, в том числе и многих из тех, кто стоял у кормила этой самой революции. Наиболее близкий пример революционного экстремизма — Иран. Но нечто подобное было и в Китае. Однако проходит определенный срок и наступает время компромисса. Компромисса во имя здравого смысла, достижения тех целей, ради которых совершалась революция (а она в любом случае имеет своей задачей улучшение условий жизни большинства народа). В Китае компромисс свелся к восстановлению нарушенной экспериментами Мао привычной и приемлемой для страны и народа нормы. Если же учесть, что эта норма восстанавливалась под знаменем социализма, противостоящего капитализму и в то же время функционально близкого «государственному способу производства», то не приходится удивляться, что результатом этого было укрепление основ традиционной структуры. Иными словами, общественная структура Китая после Мао оказалась ближе к традиционной, чем когда-либо за последнее столетие.
В. Хорос: Да, но это возвращение к традиционности одновременно было формой модернизации, не только провозглашаемой (и в этом смысле субъективной), но и являющейся, безусловно, объективной задачей китайского общества. Получается противоречие…
Л. Васильев: Естественно. Поэтому модернизация страны, провозглашенная главной целью, требовала ломки только что восстановленной структуры, в частности резкого уменьшения роли централизованного контроля государства сначала в сфере экономики, а затем и в сфере политики. Именно такая ломка ныне и предпринята в КНР, причем уступки рынку и индивидуальному предпринимательству отнюдь не приравниваются к уступкам капитализму. Официально не приравниваются. Это значит, что официально Китай не хочет ломать существующую структуру и уже благодаря одному этому имеет основания оказаться лидером тех стран развивающегося мира, которые тоже от подобной ломки отказываются.
Возвращаясь к метафоре о «дуге развития», можно вновь констатировать, что на одной ее стороне те, кто добивается ломки старой структуры, но по не зависящим от них причинам не преуспевает в этом, а на другой — те, кто не приемлет ломки, но вынужден считаться с тем, что она все же идет. Крайности, таким образом, если не сходятся, то сближаются, и вектор исторического процесса в странах неевропейского мира очевиден: элементы еврокапиталистической структуры, активное внедрение которых сюда началось с эпохи колониализма, продолжают расти и накапливаться.
В. Хорос: Леонид Сергеевич, как следует понимать Ваш вывод с точки зрения перспективы? Означает ли это, что развивающийся мир идет к капитализму европейского типа?
(Продолжение следует)



