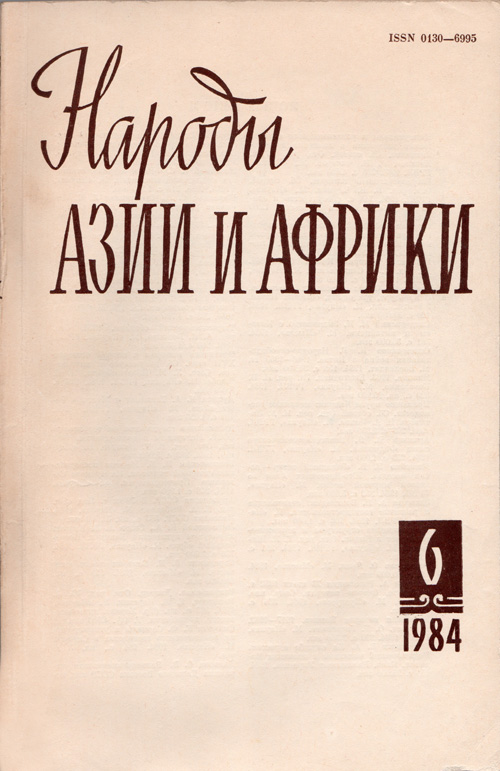 РЕЦЕНЗИЯ НА КН: Л.С.ВАСИЛЬЕВА. ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ ВОСТОКА.
РЕЦЕНЗИЯ НА КН: Л.С.ВАСИЛЬЕВА. ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ ВОСТОКА.
№ 6, 1984
PDFфайл
Книга Л. С. Васильева — результат многолетнего чтения курса лекций по {истории религий Востока, и ее основное предназначение — быть учебным вузовским пособием для студентов-востоковедов. Поэтому и оценивать эту книгу нужно прежде всего с точки зрения ее соответствия этим функциям.
Учебное пособие призвано дать максимум сведений, но не быть при этом сухим перечнем фактов: такие сведения не запомнятся студентам. Изложение должно быть ярким, воздействующим на воображение. В этом отношении книга, на наш взгляд, очень удачна. Автор смог в относительно небольшой объем вложить очень обширный материал. При чтении книги постоянно ощущаешь, что родилась она из курса лекций. Но учебное пособие не только информирует и обучает, оно должно еще и будить мысль. Книга Л. С. Васильева в полной мере удовлетворяет и этому требованию. Не впадая в социологический схематизм, автор дает представление об общих направлениях религиозной эволюции, закономерностях развития исторических религий и специфике каждой из них, связанной с особенностями лежащих в их основе различных комплексов религиозных представлений. Он показывает также сложные взаимовлияния религии и общества, воздействие религии на древние и средневековые социальные системы, равно как и на особенности социально-политического развития различных стран в наше время. И это делает книгу интересной и ценной не только в качестве вузовского пособия: поднимаемые в ней проблемы важны и интересны для всех, кто профессионально или непрофессионально интересуется Востоком, и более того, для всех, кого занимают проблемы духовного развития человечества. На некоторых из этих крупных проблем, поставленных и освещенных в работе Л. С. Васильева, хотелось бы специально остановиться в данной рецензии.
Исходный пункт религиозного развития человечества совпадает с исходным пунктом развития человека, возникновением «ранних форм духовной жизни» (с. 28). Полная реконструкция процесса становления религии (как и появления человека) — задача едва ли не бесконечной сложности. Ясно, однако, что первоначальный, древнейший комплекс религиозных представлений относительно един, ибо в верованиях древнейших народов и народов, находящихся на ранней стадии развития и никогда в историческое время не общавшихся между собой, как, например, австралийцы и эскимосы, мы находим общий набор элементов, общую, хотя, естественно, в каждом случае модифицированную религиозную структуру— тотемизм и анимизм, магию и фетишизм (с. 39). Раскрытие внутренней логики этой структуры, взаимообусловленности ее элементов и ее связи с человеческой психикой — важнейшая задача для понимания не только первобытного мира, но и всего последующего религиозного развития, которое можно представить себе как дифференциацию первоначального ядра, когда на первый план выходят разные элементы данного комплекса (с. 40). Так, у всех примитивных и древних народов мы находим представления как о влияющих на жизнь человека личностных сущностях (духах предков, богах, демонах и т. п.), так и о действующих в мире безличных силах. Боги и духи, как и люди, обладают эмоциями и волей, они могут гневаться, их можно умолить, но безличные силы действуют «автоматически»: например, нарушение табу влечет за собой не гнев бога, а «автоматическую» кару, подобно тому как принятие яда имеет следствием болезнь и смерть (с. 32). Такого рода силы бессмысленно умолять — ими можно лишь как-то овладеть, слиться с ними, подчинившись им и подчинив их себе. Эта изначальная двойственность религиозных представлений в конечном счете ведет к двум принципиально различным путям религиозного развития человечества.
В европейско-ближневосточном ареале на первый план выходят боги-личности. И если в политеистических системах господство личностного элемента не может быть полным (ограниченное могущество ограничивающих друг друга богов подразумевает наличие каких-то неличностных сил и законов, управляющих их миром), то в иудаизме — первой истинной монотеистической религии — один Бог «поглощает» всех богов и как бы заключает в себе все силы, действующие в этом мире, становится единственным объектом религиозных чувств. Вслед за некоторыми зарубежными историками Л. С. Васильев связывает возникновение иудейского монотеизма с влиянием отголосков египетских жреческих монотеистических спекуляций и реформы Эхнатона на группы семитов, лишившиеся своей земли и находившиеся под господством египтян, а затем сплотившиеся вокруг возвестившего «Законы Яхве» харизматического лидера (с. 69—70). На наш взгляд, эта гипотеза, допускающая историчность основных контуров библейской истории Моисея и Исхода, дает картину, наиболее приемлемую одновременно исторически и социологически.
Монотеизм логически связан с целым комплексом идей — сотворения мира «из ничего» (признание какого бы то ни было элемента, совечного Богу, означало бы ограничение его всемогущества) и соответственно конца мира, обращения Бога к людям — в «откровении», через пророков и обращения людей к Богу — в молитве. Наконец, идея Бога как живой индивидуальной личности подразумевает идею высшей ценности индивидуального, личностного начала в человеке, сохранения этой индивидуальности за гробом и идею загробного суда.
Иудаизм — этническая, не прозелитическая религия, но он дает импульс к возникновению двух надэтнических мировых монотеистических религий — христианства и ислама. Несмотря на родство и множество общих мифологических элементов, ислам, как показывает Л. С. Васильев, — религия, оказывающая совершенно иное социальное и психологическое воздействие, чем христианство. Его основатель не «распятый бог», а относительно успешный воинственный политический деятель, который мыслится как последний из пророков единого Бога. В отличие от принципиально неформализуемых требований, которые предъявляло к личности христианство, Магомет предъявлял ряд очень строгих и формальных требований типа обязательной ритуализованной пятикратной молитвы. Он не говорил о «царствии не от мира сего», а стремился утвердить справедливое, по его мнению, законодательство: гражданский и уголовный закон в исламе — сфера непосредственно религиозная, и для ислама не свойственна та степень разграничения государственной и церковной сфер, какая характерна для христианства. Философско-теологические вопросы в исламе занимают меньшее место, чем вопросы правовые, и если основные расколы в христианстве были связаны с такими проблемами, как божество Иисуса Христа или исхождение святого духа, то основные расколы в исламе — с разными представлениями о том, как законным путем должна передаваться верховная политико-религиозная власть — власть халифа. Но самое высшее требование ислама к личности — это требование быть всегда готовым умереть во имя истинной веры в вооруженной борьбе с ее врагами. Ислам одновременно и терпимее христианства (инквизиция и казни за разногласия по отвлеченным богословским вопросам ему не свойственны, и мусульмане никогда так не преследовали покоренных ими христиан, как христиане мусульман), и «фанатичнее».
Совсем иначе идет религиозное развитие в индийско-дальневосточном ареале. Если в ближневосточном регионе на первый план выдвигаются личные боги, и затем возникают монотеистические религии, то здесь на первый план выходит представление о действующих в мире безличных силах. В индуизме оформляется идея о Брахмане — единой, не личностной субстанции этого мира, абсолюте. Как и в монотеистических религиях, мир в индуизме несущностен, но не потому, что он сотворен «из ничего», а потому, что он есть проявление Брахмана, не имеющего с ним ничего общего. Он — иллюзия, идея, сохраняющаяся и в возникшем из _ индуизма буддизме. И как монотеизм логически связан с целым комплексом религиозных идей, так и признание безличностного абсолюта, как это показано Л. С. Васильевым, имеет ряд собственных логических следствий. Бог может сотворить мир волевым актом, безличный абсолют предполагает вечность мира. Не волей Бога, но таинственной «пульсацией» абсолюта миры вновь и вновь возникают и исчезают. Личный Бог как бы подразумевает ценность личностного начала в человеке. Напротив, если в основе мира лежит безличное начало, то такое же начало находится и в основе человека. Личность — это как бы оболочка, верхний пласт (буддизм говорит об иллюзорности личности вообще), на дне же, в глубине — безличное начало Атман, тождественное Брахману. Никто не судит человека за его грехи, и духовная потребность человека установить связь этического и космического миропорядков находит выражение в индуизме и буддизме в идее кармы — «механически» действующего закона, по которому душа человека после смерти переселяется в другие тела и то, какое это будет тело (скажем, представителя высшей касты или червяка), определяется поведением человека. Но эта переселяющаяся душа — нечто иное, чем душа человека в монотеистических религиях, ибо человек не сохраняет памяти о прежних рождениях, это не личность, а некая бессознательная потенция личности. Но высшая цель индуиста и буддиста — не хорошее перерождение, не вечное сохранение своего индивидуального начала, а, напротив, ликвидация этого начала, прекращение цепи перерождений. Аскезой и погружением в глубины своего «я» человек может достичь слияния с абсолютом и тем самым выйти из круга перерождений. Как безличный абсолют принципиально отличен от личного Бога, так и высшая цель в буддизме и индуизме принципиально отлична от высшей цели христианства или ислама: не вечное сохранение «я», «вечная жизнь», а, напротив, исчезновение «я».
Иной, но также безличностный вариант представлений об абсолюте в китайском конфуцианстве. Здесь миром правит вечное Небо, выступающее как высший регулятор космических и социальных процессов. Однако Небо — это не «сущность» мира и человека, как Брахман. Брахман — то, что находится «за» миром, «в глубине» мира и души. Небо — «над» миром и человеком. Конфуцианство не имеет разработанной доктрины Неба, как и разработанного учения о душе. Центр тяжести здесь — в учении о правильной, разумной организации государства и общества, отступление от которой — нарушение не только социального, но и космического, природного равновесия, общего закона Неба, и такое отступление автоматически карается разного рода общественными бедствиями.
В истории восточных религий, как она показана в книге Л. С. Васильева, мы постоянно видим, что усиленное проведение какой-то одной религиозной мысли, «чрезмерное» развитие какого-то одного из элементов первоначального религиозного комплекса влечет за собой частичные «компенсации»: психологические потребности, которые доктрина не удовлетворяет, находят все же «окольные» пути своего выражения и удовлетворения. Так, первоначальный ислам не знал аскетизма и идеи мистического слияния с Богом, но затем возникали суфийские монашеские ордена, причем в суфийском мистицизме отчетливо прослеживается тенденция к подмене личного Бога безличным Абсолютом, слиться с которым в экстазе стремится суфий. Строжайший монотеизм ислама «смягчается», как и в христианстве, культом святых (с. 146—149).
В индуизме совершенно иной первоначальный и центральный комплекс религиозных идей, иначе компенсируется и его ограниченность. Учение о Брахмане и Атмане не могло быть религией широких масс. Индийцам, не живущим в интеллектуализированном мире религиозной мысли, небрахманам, нужно было кому-то молиться, приносить жертвы, нужны были заступники. Поэтому, хотя широкие массы индийцев небрахманских каст верили брахманам, они часто не знали брахманской премудрости (низшим кастам было даже запрещено читать священные книги) и жили совсем в ином мире — мире политеизма, сохраняющего весьма архаические черты (с. 214—215).
Если в индуизме «компенсация» безличного характера религиозного учения совершается за счет сохранения личностного и политеистического начала на низших уровнях религиозной системы, то в буддизме, имеющем исторического основателя и не знающем каст, эта компенсация выступает в виде метаморфоз, превращающих некоторые варианты буддизма в системы, очень не похожие на первоначальный буддизм и удивительно напоминающие христианство (с. 210—212). Аналогичные процессы происходят и в конфуцианстве. В народном китайском, как и в народном индийском, сознании господствует политеизм, а «сухость», «приземленность» конфуцианства в какой-то мере уравновешивается тем, что с ним сосуществовали никогда не становившиеся господствующими религиями, но занявшие определенное место в китайском религиозном синкретизме буддизм и во многом близкий к нему даосизм (с. 321).
Различия восточных религий — это, как показывает Л. С. Васильев, и различия социальных систем древних и средневековых восточных обществ, ибо догматически закрепленные изначальные особенности религии активно влияют на социальную жизнь. Так, ислам, сакрализуя правовую сферу, накладывает на светскую власть жесткие формальные ограничения, немыслимые в христианстве. Например, налоги в исламском государстве — отнюдь не безразличная религии вещь, оставленная на произвол светской власти, так же как и вопросы землевладения, уголовного права и т. д. Нет «царствия не от мира сего» — нет и жестко отделенной от государства и противостоящей ему церкви. Элементы эгалитаризма, присущие исламу, а также значительная роль в государстве мусульманских судей и правоведов, открывавшая дорогу к высшим должностям простым людям, овладевшим премудростями исламского права, мешали образованию жестких, изолированных друг от друга сословий. Идея джихада, священной войны, и идеал смерти в бою за веру способствовали высокому значению армии, военных в исламских обществах.
Принципиально иначе воздействует на социальную систему индуизм с его резким различием разных уровней восприятия религии, немыслимой в исламе «закрытостью» религиозного учения для народных масс, идеей перерождения и высшей ценностью аскезы и интровертированных духовных усилий, направленных на слияние с Брахманом. Индуизм теснейшим образом связан с кастовой системой, с брахманами как высшей кастой, занятыми жертвоприношениями, религиозными размышлениями и аскезой и непосредственно не участвующими в государственном управлении, так как они не могли быть царями и воинами. Государственная власть, войны и т. п. — отнюдь не высшая ценность. Это — дело кшатриев, касты более низкой, чем брахманская. В этом, как полагает Л. С. Васильев, одна из причин слабости и неустойчивости государственных образований в истории Индии (с. 235) при поразительной устойчивости кастовой системы.
Наоборот, конфуцианство — религия государства, имевшая определенный проект общественно-государственных отношений, причем проект, в значительной мере осуществленный в модифицированном в соответствии с конфуцианскими канонами строе императорского Китая, где произошло полное слияние конфуцианской религиозной организации с государственным аппаратом в единую иерархию «чиновников-священников». Здесь нет каст, напротив, конфуцианский Китай — общество с необычайной для средних веков социальной мобильностью и поразительной устойчивостью государственной системы, несмотря на все потрясения вновь и вновь восстанавливающей свой священный строй (с. 280—282).
Восточные общества, как отмечает Л. С. Васильев, не смогли своим собственным путем прийти к современной науке, промышленности, буржуазному строю, как это сделала Европа, что, очевидно, связано с особенностями ее христианской духовной традиции. Проблема модернизации, выхода на европейский уровень развития встает перед ними в результате колонизации и борьбы против колониализма (с. 27). Но то, как совершается модернизация, в значительной мере определяется особенностями религий этих обществ.
Как показывает автор, характерные для индуизма плюрализм, способность инкорпорировать другие религии в свою систему (находя общинам их приверженцев место в своей кастовой иерархии), глубина его религиозной философии, его несвязанность с определенным государственным строем дали ему возможность приспособиться к современному развитию. Сейчас Индия — страна очень высокого уровня религиозности и одновременно значительного мировоззренческого и политического плюрализма, устойчивого парламентаризма. Совсем иным путем происходит развитие у родственных народам Индии мусульманских народов Пакистана и Бангладеш, где военные играют роль, немыслимую в Индии, и где одна военная диктатура сменяет другую. Громадная роль армии характерна и для других мусульманских стран, равно как для всех них характерны различные народные движения социального протеста, апеллирующие к исламским идеалам равенства мусульман и социальной справедливости, и различные комбинации исламских и социалистических идей. При этом очень своеобразное развитие Ирана четко связывается со своеобразием шиитского направления в исламе.
Если ислам с его простотой и общедоступностью, формализмом и идеями социальной справедливости, никогда, однако, не осуществивший полного слияния религиозной организации и государственного аппарата, обнаруживает очень большую живучесть и устойчивость, то падение конфуцианского государства означало и распад слитой с ним в единое целое и не способной существовать самостоятельно конфуцианской религиозной организации. Но даже распавшееся конфуцианство оказывало и оказывает колоссальное влияние на современное развитие Китая.
Д. Е. ФУРМАН



