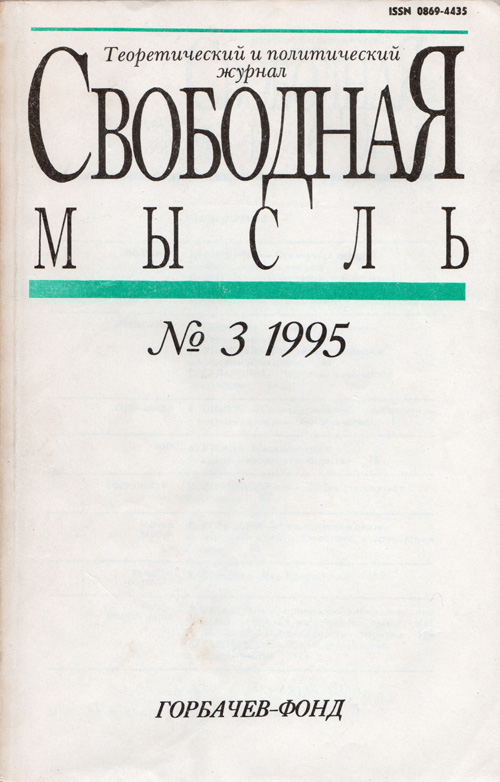 «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ИСТМАТ» ?
«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ИСТМАТ» ?
От идеологии перестройки к идеологии «строительства капитализма» в России
№3 1995
Во всех странах, где произошло падение коммунистических режимов, демократические антикоммунистические движения создают разную у разных национальных движений в деталях, но общую по своей структуре схему исторического процесса. Эта схема членит историю на четыре периода.
Первый период — то, что было до коммунизма, — оцениваемый позитивно. Это — Россия (Литва, Эстония, Чехия и т.д.), «которую мы потеряли». Второй — период коммунизма, естественно, представляющий собой «царство тьмы». Третий — переходный период освобождения, сопряженный с трудностями и являющийся временем напряженной борьбы с разного рода враждебными и реакционными силами. Наконец, четвертый — когда силы «добра» окончательно победят, все, что было испорчено коммунизмом, будет исправлено, наступит время свободы, богатства, счастья. В рамках четвертого периода возвращается то, что было потеряно при переходе от первого ко второму, но возвращается «на новом, высшем этапе» так, чтобы уже никогда не быть утраченным снова.
Эта схема возникает естественно, как бы сама собой, из самого факта отвержения «коммунизма», и ее элементы связаны между собой логически и психологически. Но одновременно в ней есть «архетипический» мифологический пласт. Сквозь нее проглядывает миф о потерянном и возвращённом рае, множество раз в секуляризированной форме воспроизводимый в идеологических построениях нового и новейшего времени. Схема эта подразумевает реальные действия и стремления людей. Но в то же время это и схема мифотворчества, преобразующего историческую реальность, делающего из нее «сказку со счастливым концом». Люди не просто слушают или смотрят ее по телевизору — они включены в нее, они — ее действующие лица, герои.
Естественно, что эта спонтанно возникающая схема массового сознания модифицируется в разных странах в соответствии с их культурой и исторической памятью. Скажем, восстановление Эстонской республики — это нечто иное, чем создание независимой Украины, которой как «полноценного», общепризнанного и устойчивого образования современного типа никогда не существовало. А враждебные силы, с которыми борются на третьем, переходном периоде армяне, — это совсем иные силы, чем, например, те, с которыми ведут борьбу латыши, и т. д.
Само собой разумеется, подобная схема есть и у нашего демократического антикоммунистического движения. У нас тоже — Россия, которую мы потеряли, муки коммунизма, ожесточенная борьба с врагами («партноменклатурой», «колхозными баронами», «коммуно-фашистами» и т. п.) и в конце — счастливая свободная Россия, живущая не хуже, чем американцы или какие-нибудь шведы, всеми уважаемая великая страна, принятая на равных в клуб «избранных», респектабельных демократических держав.
Однако своеобразия этой схемы в России, по моему мнению, больше, чем отличий друг от друга, имеющихся в антикоммунистических исторических схемах других народов. Россия — это «особый случай», и ее демократическая антикоммунистическая идеология должна иметь некоторые принципиальные отличия от аналогичных идеологий других народов по той простой причине, что все — от азербайджанцев до венгров — могут видеть в коммунистическом периоде время российского господства, в коммунизме — систему, навязанную русскими, а в освобождении от него — освобождение от «московской тирании». Русские же — единственный из освободившихся от коммунизма народов, чья антикоммунистическая идеология не может «списать» коммунизм за чужой счет и видеть в свержении коммунистической системы национальное освобождение. К каким же идеологическим последствиям это ведет?
Для демократических антикоммунистических движений других народов, при всех их различиях, характерно то, что национальное чувство и антикоммунизм «одновекторны». В России такой одновекторности быть не может.
«Эндогенность» нашего коммунизма порождает логическую дилемму: или он безоговорочно плох, но тогда и мы — не так хороши, наша культура, породившая чудовище, — «дефектна», или же мы — очень хорошие, наша культура — глубочайшая, величайшая и т. д., но тогда и коммунизм не так уж плох. Эта дилемма, как правило, не проговаривается и часто даже не осознается. Более того, она прячется нами от сознания, запихивается в «подполье сознания». Но в этом подполье она живет, все время напоминая о себе и пытаясь выйти, наружу. Совсем не замечать ее мы не можем. Кроме того, коммунизм у нас — не просто «свой», но это еще — и идеология, при господстве которой и на основе которой была создана величайшая русская империя.
Поэтому наш коммунизм и наш национализм тянутся друг к другу. Идеология «зюгановской» и других наших компартий, в отличие от идеологии партий — преемниц компартий в других странах бывшего СССР и Центральной Европы, делает упор на «державности», национальных традициях, русском коллективизме и т. д. И даже самый антикоммунистический национализм фашистского толка, видящий в Октябрьской революции результат еврейского заговора, вынужден у нас все-таки как-то различать «плохих» еврейских революционеров и «хороших» — Сталина и других правителей, создавших империю русского народа, и, следовательно, не может быть антикоммунистическим до конца. «Красно-коричневый» блок — явление специфически русское и глубоко укорененное в нашем сознании и нашей истории.
Но в общественной и культурной жизни все взаимосвязано. Другой стороной нашей «одновекторности» национализма и коммунизма, естественно, должна быть «разновекторность» национализма и антикоммунизма. Имея на одном полюсе «зюгановцев», на другом мы получаем «Выбор России», и наоборот.
Идея «России, которую мы потеряли», играет в нашей демократической антикоммунистической идеологии неизмеримо меньшую роль, чем у чехов идея о «Чехии, которую у них отняли», у эстонцев — Эстонии, которую у них тоже отняли, и т. д. Для русского демократа докоммунистическое прошлое — скорее проблема, чем опора. Ему, естественно, очень хочется найти опору в прошлом, он готов при этом на большие, «уступки», например, муссируя тему трагической гибели царской семьи и полностью позабыв о всякого рода «кровавых воскресеньях» и «ленских расстрелах». Но совсем уж закрыть глаза на очевидно далекий от либерально-западнического идеала характер дореволюционного общества, на то, что именно эволюция этого общества привела в конечном счете к Октябрьской революции, он не может. Поэтому те демократы, которые уж слишком увлеклись идеей восстановления «потерянной России», естественным образом стали двигаться к блокированию с коммунистами (В. Аксючиц, И. Константинов, А. Руцкой и другие). Для «настоящих» же демократов «заигрывание» с дореволюционным прошлым и восстановление атрибутики царского времени было скорее демагогией, призванной нейтрализовать националистическое сопротивление разрушению СССР. Демократы других стран скорее «восстанавливали утраченное», у нас же — больше строили «светлое будущее». Никогда чешские, эстонские, польские демократы-антикоммунисты не назвали бы своего движения, например, «Выбором Чехии»: у чехов в некотором роде нет выбора, общество западного типа — просто их естественное состояние. Для наших же демократов то, за что они борются, — это именно «Демократический Выбор России».
Естественно, что отвержение коммунизма нашими демократами («настоящими» демократами) — более страстное и принципиальное. Польские, чешские, любые другие демократы не жертвовали ради отвержения коммунизма «имперским» положением своего народа и превращением значительной его части в относительно неполноправные нацменьшинства. Наши — жертвовали, и жертвовали совершенно сознательно и идейно.
Главные враги, с которыми идет борьба в «переходный период», в нашей демократической идеологии также резко отличаются от главных врагов демократов других стран. Для демократов во всех странах бывшего СССР, да и странах Центральной Европы, главный враг – это «имперские силы», базирующиеся в Москве, главная опасность — «имперский реванш». Для нас — это наши собственные враждебные силы, наш, а не чужой, имперский реванш. Когда прибалты боролись с «интердвижениями» и с Москвой, они боролись с «неприбалтами», а когда с теми же интердвижениями и той же Москвой («имперским центром») боролись наши демократы, они боролись со «своими» же, с русскими. В идеологии других антикоммунистических движений была идея общенационального сплочения, у нас же с самого начала присутствовал элемент «гражданской войны».
Наконец, в той же мере, в какой более принципиален наш антикоммунизм, в такой же более принципиально и наше западничество. Для большинства других освободившихся, от коммунизма народов западный тип общества – просто естественная норма, для наших демократов это скорее идеал.
Мы видим, таким образом, что общая демократически-антикоммунистическая схема представлена у нас в очень своеобразном национальном варианте. В нашем антикоммунизме — больше «идейности», чем в антикоммунизме стран, где коммунизм был навязан извне, и соответственно антикоммунизм оказался слит со стихийным и спонтанным национальным чувством. Поэтому, например, эстонский демократ может и не очень-то задумываться над вопросом: что же наиболее существенное и наиболее.плохое в коммунизме и наиболее существенное и хорошее в обществе «западного типа»? У нас же такой вопрос возникает совершенно естественным образом.
Коммунизм — сложная идеологическая, политическая и социально-экономическая система. Западное общество — тоже сложное о6щество, сочетающее такие элементы, как политическая демократия, рыночная экономика, правовой характер общества и другие. Есть ли для нашего антикоммуниста-демократа здесь что-то самое важное, самое принципиальное? Как мне думается, есть, и это — рынок и частная собственность, господство которых делает западное общество принципиально «хорошим», а отсутствие которых делает коммунизм принципиально порочным. Прочие различия — скорее производные, следствия этого глубинного, основного различия.
В нашей антикоммунистической революции, происходящей (теперь, наверное, правильнее сказать «происходившей») в «постмодернистскую» эпоху, эпоху общего упадка идеологий, мы не имеем дело, как это было в 1905 — 1917 годах, с крупными идеологами-мыслителями и развернутыми и продуманными идеологиями-философиями. Теперешние идеологии — это схемы массового сознания. Поэтому и идея, что главное — рынок и частная собственность, нигде, насколько мне известно, не «прописана» и не продумана до конца, не представлена в виде развернутой философии. Тем не менее ее можно вычленить из огромного количества отдельных высказываний наших демократов и из их реальных политических действий. В громадном количестве появившихся в последние годы статей, например, «походя», как аксиома, говорится о том, что основа демократии — наличие мощного класса частных собственников, в необозримом числе публикаций утверждается, что только рынок и частная собственность могут сделать нас богатыми и что наши реформы все же идут успешно, ибо хотя народ явно и стал жить хуже, зато так же явно вырос слой буржуазии и экономика приобрела более рыночный характер, а это — основа и залог последующего обогащения всего народа. Наиболее любимая нашими демократами фигура в российском прошлом — П. Столыпин — отнюдь, как известно, не демократ, но при этом — беззаветный борец за капитализм. Героизация его образа может быть примирена с демократизмом лишь одной мыслью: борясь за капитализм, Столыпин создавал самую основу демократии, которая затем естественным путем из этого капитализма бы выросла, в то время как какой-нибудь меньшевик (может быть, субъективно и демократ) своей борьбой с капитализмом подрывал основу этой демократии. То же самое можно сказать и о Пиночете, который по схеме, делающей капитализм основой демократии, объективно — больший демократ, чем Альенде. Роль прокапиталистической экономической публицистики у нас была значительно больше, чем в других странах, и в то время, как демократы других стран писали и читали статьи о славном прошлом своих народов и их героической борьбе с русскими угнетателями, у нас зачитывались Н. Шмелевым, В. Селюниным, Л. Пияшевой и другими. Не случайно, что в Закавказье лидеры демократов — филологи А. Эльчибей, З. Гамсахурдиа, Л. Тер-Петросян (Закавказье — это поле битвы филологов), в Литве — пианист В. Ландсбергис, в Чехии — писатель В. Гавел, в Болгарии — философ Ж. Желев, а у нас всеми крупными демократическими объединениями руководят экономисты — Е. Гайдар, Г. Явлинский, Б. Федоров, С. Глазьев (что отнюдь не делает развитие нашей экономики более успешным, чем в той же Чехии). Однако прежде всего примат капитализма в нашем демократическом сознании виден в реальных действиях наших демократов, в их «экзистенциальном выборе». То, что большинство из них пошло на установление в октябре 1993 года фактически авторитарного президентского режима, объясняется отнюдь не только карьеристскими и корыстными соображениями и не только страхом перед «красно-коричневыми», но и соображениями вполне бескорыстными и идейными — верой в то, что обладающему авторитарной властью президенту-«реформатору» легче будет проводить рыночные реформы и тем самым — создавать самую основу демократии. Выбор, совершенный этими людьми в октябре 1993-го, вполне соответствует их идеологии, и, если согласиться с тем, что капитализм и рынок — это главное, основное в демократическом, западного типа обществе, а демократия и правопорядок, богатство и другие блага естественным образом из капитализма вырастают, мы должны признать, что такой выбор — логичен и правилен.
Я думаю, что ни в одном другом демократическом антикоммунистическом движении «идейный капитализм» не играл такой большой роли, как в демократическом движении нашей страны — страны, наименее готовой (психологически и культурно) к капиталистическому рынку. Но откуда же появилась эта идейная роль именно рынка и частной собственности? Вообще, откуда взялась идея, что рынок и частная собственность — тот «базис», на котором естественно вырастают все хорошие плоды?
Прежде всего эта идея отнюдь не относится к категории самоочевидных истин. Мы действительно не найдем в истории общества, в котором собственность была бы сосредоточена в руках государства, но государство при этом было бы демократическим. В то же время обществ с господством частной собственности, но не демократических было и есть множество. «Самоочевидно» скорее то, что капитализм сам по себе не есть гарантия демократии, что господство капитализма не помешало Италии стать фашистской, Германии — нацистской и т. д. Нам еще долго расти до той степени развитости и укорененности капитализма, которая имелась в Веймарской республике к 1933 году.
Также отнюдь не «самоочевидно», что капитализм обязательно связан с процветанием и богатством общества. Действительно, самые богатые страны — капиталистические. Но и самые бедные — тоже отнюдь не социалистические. Нищета Латинской Америки или Африки никак не связана с господством в этих странах социализма, и социалистический СССР хотя и оставался неизмеримо беднее капиталистических США, но был неизмеримо богаче тоже вполне капиталистической Боливии.
Все это настолько общеизвестно и самоочевидно, что идея частной собственности и рынка как основы, базиса, из которого естественным путем, произрастает все самое хорошее — богатство, демократия, правопорядок, культура и т. д., предстает как чистая «идеология», как идея, которой следуют не потому, что она соответствует фактам, а несмотря на то, что она им не соответствует, но отвечает каким-то глубоким психологическим потребностям ее приверженцев. Каковы же корни этой идеи? Может быть, это просто «западная» идеология, идеология тех развитых демократических и капиталистических стран Запада, на которые ориентируются наши демократы?
Но, как мне представляется, хотя эта идея «западническая», ее никак нельзя назвать «западной». Это для советских людей, для коммунистов противостояние СССР и Запада было противостоянием социализма и капитализма. Для Запада же оно представляло собой противостояние «свободного мира» и мира тоталитаризма. И в этом противостоянии по одну, «свободную», сторону баррикад стояли и принципиальные сторонники свободного рынка, и христианские критики буржуазного общества, и социалисты, иногда даже ортодоксально марксистского толка. Объединяющей их ценностью была отнюдь не ценность капитализма, а ценность демократии и прав человека.
В ряду этих прав есть и «священное право частной собственности»; в ряду неотъемлемых. свобод есть и «свобода предпринимательства», которые порождают как свое следствие рыночную частнособственническую экономику. Но это отнюдь не значит, что рынок — это «базис», естественно порождающий демократию и право. Напротив, и для католика, и для протестанта, и для социалиста, и просто для американского либерала рынок — это сфера, за которой демократическое общество должно пристально следить, чтобы его бесконтрольность не привела к аморальным и антидемократическим следствиям, способным подорвать демократический правопорядок. И я не думаю, что при всей распространенности сейчас на Западе критики государственного вмешательства в экономику и прославления рынка найдется западный идеолог, даже самый «прорыночный», который согласился бы, например, с очень распространенным у нас утверждением, что воровство и коррупция — это не так уж плохо, поскольку они создают класс частных собственников.
Но если идея «первичности» рынка и частной собственности по отношению к демократии и праву не «импортированная», а «автохтонная», то где же ее источник?
Источник этот — совершенно очевиден. Это — марксизм-ленинизм. В отличие от антикоммунистических движений других стран наше массовое антикоммунистическое сознание глубоко пронизано представлениями, бессознательно взятыми из марксизма-ленинизма, но при этом «перевернутыми». Наш вариант мифа о «потерянном и возвращенном рае», наша «сказка со счастливым концом» прямо и непосредственно зависят именно от марксистско-ленинского истматовского варианта этой мифологической схемы, представляя собой как бы его зеркальное отражение. Коммунизм у нас — не господство иноземцев, а нечто вроде капитализма в марксистской схеме, «преодолеваемая формация», основа которой (и это же — ее основной порок, ведущий к гибели) — господство государственной собственности, точно так же как основа и основной порок капиталистической формации для коммунистов — частная собственность.
Смысл переходного периода для наших антикоммунистов-демократов, как и для марксистов-ленинцев, — изменение отношений собственности, только обратные тем изменениям, которые производили коммунисты и, естественно, также предполагающие «классовую борьбу» (причем роль приватизации аналогична роли «экспроприации частной собственности») и чуть ли не что-то вроде «диктатуры буржуазии», то есть перевернутой «диктатуры пролетариата» (авторитарная власть «президента-реформатора»). Прекрасное общество будущего — это опять-таки общество с «правильной формой собственности», естественным следствием которой должны стать свобода, богатство, счастье и т. п. Наша сказка — это просто прежняя истматовская сказка, сохраняющая всё «сюжетные элементы» и взаимосвязи между ними, но ставящая знак «плюс» там, где марксистско-ленинская ставила знак «минус». «Баба-Яга» первой сказки стала «Прекрасной Царевной» во второй. А грандиозная схема марксистской философии в нашу «постмодернистскую» эпоху в перевернутом виде стала просто схемой массового сознания, не зафиксированной в каких-либо ярких, развернутых и красочных формах. Эпос превратился в детектив.
Но наша демократическая идеология зависит не только от основного марксистско-ленинского «сюжета». Зависит она и от карикатур, созданных нашей коммунистической пропагандой, на которых теперь причудливым образом тоже начинают ставить знак «плюс». Коммунистическая пропаганда говорила, что на Западе каждый думает только о собственной выгоде, там все решают деньги и т. д. и это — очень плохо. Теперь для многих именно это становится хорошим. Наша пропаганда заявляла, что США — империалистический хищник, руководствующийся во внешней политике только собственной выгодой и всячески стремящийся подмять других под себя и расширить зону своего влияния. Теперь мы слышим, что именно так и должна вести себя демократическая Россия. Наши политики и бизнесмены зачастую подражают не столько Западу, сколько карикатуре на Запад, которая при «переворачивании» превращается из карикатуры в идеал. В новой сказке не красавице дается имя Бабы-Яги, но рисуется Баба-Яга со всеми ее характерными уродливыми чертами и объявляется, что эти черты и есть идеал красоты.
Общая структура наших коммунистической и демократической антикоммунистической идеологий порождает и ряд общих следствий. Прежде всего это своеобразный «аморализм» обеих идеологий. Это — аморализм, проистекающий не из обычной человеческой слабости, а принципиальный и «идеалистический». Ибо если «правильная» форма собственности — основа всего прекрасного, то для достижения ее и можно и нужно идти на очень многое. Я вполне представляю, например, Гайдара, с искренней болью смотрящего на расстрел «Белого дома» и думающего: «Как это ужасно! Вот на что приходится идти! Но зато реформы будут продолжаться. И теперь уже никому не остановить победного хода приватизации!» Или его же, думающего о тотальной коррупции и мафиозности приблизительно так: «Все-таки какая это страшная вещь — первоначальное накопление! Но ничего, как это ни противно и ни мучительно, через это надо пройти, чтобы если не мы, то наши дети жили при настоящем капитализме».
Другое следствие — это недемократические и неправовые тенденции обеих идеологий. Предполагается, что во имя создания «базиса» для будущей прочной, настоящей демократии вполне можно пойти на ограничения или даже ликвидацию теперешней, непрочной, несовершенной. Между прочим, коммунисты тоже не были против свободы: при коммунизме свобода будет полной, при нем вообще не будет государства и какого-либо принуждения, их тоталитаризм — временный, до построения коммунизма.
Еще одно следствие — присущая обеим идеологиям «спешка». В самом деле, если путь к счастью ясен, но труден и мучителен, хорошо бы его пройти как можно скорее, например за 500 дней.
Все взаимосвязано: «аморализм», недемократизм и «спешка» — это три аспекта единого понимания ситуации и стоящих перед людьми задач. Если человек болеет и рядом есть врач, знающий, что надо делать, он должен как можно скорее произвести болезненную, но необходимую операцию, а не вступать в дискуссии с больным. В самом крайнем случае, если больной совсем уже ума сходит, его можно и связать. Потом он будет сам благодарить, а если врач благодарности не дождется, то, во всяком случае, он выполнит свой долг. Именно так рассуждали коммунисты, видя необходимую, хотя и болезненную операцию в национализации, и точно так же рассуждают сейчас те, кто видит ее в денационализации (и в том и в другом случае я говорю об искренних, честных, а не «примазавшихся» коммунистах и демократах-антикоммунистах).
Марксизм-ленинизм для России — идеология «своя», не навязанная» завоевателями и за 70 лет глубоко вошедшая не только в сознание, но и в «подсознание» общества. Наши демократы-реформаторы типа Гайдара или Бурбулиса — бывшие преподаватели и пропагандисты марксизма, и, хотя они явно не верили в то, что преподавали и пропагандровали, и, наверное, старались даже, пропагандируя, одновременно и бороться с ним, их зависимость от марксизма-ленинизма все равно неизмеримо больше, чем им самим кажется. Можно сказать и так: сознавая, что то, что они вынуждены были говорить, — ложь, они полагали, что правда — это просто прямо противоположное тому, что им приходится говорить. Поэтому само их отвержение марксизма сохраняет контуры, структуру, логику учения, которое они отвергают.
В той же мере, в какой особенности нашей демократической антикоммунистической идеологии связаны с идейным и социально-психологическим контекстом, в котором она формировалась, связаны они и с нашим национально-культурным контекстом. Идеологию наших демократов неоднократно упрекали в «ненациональности», в волюнтаристском навязывании народу западных рыночных механизмов и «монетаристских схем». Но именно в этом идеология демократов глубоко национальна. Можно сказать, что она национальна там, где она сама этого не подозревает, а вовсе не там, где она стыдливо прикрывает свое западничество двуглавыми орлами и Георгиями Победоносцами. Эта идеология национальна, как глубоко национален был стремившийся выкорчевать все национальное Петр I, как глубоко национальны были большевики. Наша культура — не «западная». Более того, это — культура, для которой «прививка» правовых и демократических ценностей, возникших в Западной Европе, но ставших общечеловеческими, «нормальными», очевидно, более трудна, чем для многих стран, которые, в отличие от нашей, не являются ни христианскими, ни европейскими. Но нашей культуре в новое время имманентно стремление найти «секрет», «суть» западного мира, отставание от которого мы болезненно ощущаем (и именно потому, что мы — все же европейцы, это ощущается более болезненно, чем в странах с совсем неевропейской и нехристианской культурой). И, полностью разорвав с прошлым, при напряжении всех сил мы стремимся внедрять эту «суть», догоняя и перегоняя Запад. Петр I видел эту «суть» во всем многообразии и случайности внешних атрибутов западной цивилизации (от бритья бород до алфавита). Среди части большевиков царила уверенность, что они оставят Запад далеко позади и даже поведут его за собой при помощи самой «передовой», самой «модной» в то время западной идеологии. Сейчас наши демократы тоже решили, что все дело в капитализме — опять-таки в соответствии с западной модой 80-х годов, когда после доминирования антибуржуазных настроений 60-х годов на Западе победила (до какой-то следующей «моды») «неоконсервативная» реакция.
Таким образом, «гипертрофированная» идейная роль капитализма в нашей стране, значительно большая, чем в странах с господством частной собственности или культурно и психологически предрасположенных к частной собственности и рынку, — явление внешне парадоксальное, но вполне объяснимое. Оно объясняется колоссальным воздействием на наше общественное сознание марксистско-ленинской истматовской схемы, в громадной степени определившей логику, структуру своего собственного отрицания. И одновременно это — явление очень органичное для нашей культуры, для которой, если так можно выразиться, традиционна антитрадиционность, органична неорганичность, национальна антинациональность.
Мы попытались показать особенность нашей антикоммунистической демократической идеологии и происхождение этих особенностей. Теперь поставим вопрос: помогают ли эти особенности нашим демократам достичь своих целей? Если общество (или часть его) стремится перейти из одного состояния в другое, то какие-то элементы мифологизации (преувеличение, например, негативных сторон первого состояния и позитивных — второго) естественны и даже необходимы для психологической мобилизации людей. Когда, например, эстонцы, стремясь к независимости, преувеличенно расписывали ужасы советской власти, благоденствие досоветской Эстонии и блага независимого будущего, это не мешало, а помогало достичь того, к чему они стремились. Мифологизация в этом случае была «функциональной». Но помогает ли наша антикоммунистическая идеология с ее «истматовским» упором на отношения собственности достичь западных образцов?
Очень характерно, что во всех наших бесконечных рассуждениях о капитализме и его преимуществах почти не присутствуют Макс Вебер и вся громадная, порожденная им «веберианская» научная традиция, хотя они в общем-то достаточно хорошо отечественным ученым известны. Дело в том, что веберовские идеи о становлении капитализма глубоко противоречат нашей схеме «перевернутого марксизма». По Веберу, не капитализм порождает соответствующее ему сознание, а определенный тип сознания, возникший в протестантской Европе, порождает «свободный рынок», капитализм как одно из своих проявлений — наряду с современной наукой, отделением религии (и идеологии) от государства, правовым демократическим обществом. Этот тип сознания — нетрадиционалистский, открытый новому и будущему, преодолевший средневековые дихотомии священного, догматического, строго обязательного и мирского, низменного и неважного, делающий все сферы жизни одновременно и подлежащими пересмотру, открытыми для развития, и важными, значимыми, а поведение человека во всех этих сферах — и свободным, и ответственным. Только такой человек может создать правовое демократическое государство — свободное и в то же время основанное на жестком подчинении закону. И только такой человек может создать в сфере экономики эффективно функционирующий «свободный рынок». Капитализм поэтому создают не «герои первоначального накопления», конкистадоры и грабители, наживавшие немыслимые богатства и потом транжирившие их. В таких грабителях нет ничего специфически капиталистического, и расхожие у нас представления о «первоначальном накоплении» как необходимом для становления капитализма периоде грабежа — это тоже заимствование из марксистской мифологии. Капитализм создавали пуритане и квакеры, законники и моралисты, видевшие в своем профессиональном труде служение Богу и создававшие жесткие правовые общества. Становление капитализма связано не с дикой погоней за деньгами, а наоборот, с «морализацией» всей сферы повседневной трудовой деятельности, в том числе и деятельности специфически «капиталистической», например банкира, который, если он честно и самозабвенно трудится не для удовлетворения «похоти плоти», а для «славы Божией», может тем самым «спасти свою душу».
Тип «свободно-ответственного» человека возникает в определенной идейной системе — системе протестантизма. Но затем в процессе развития и экспансии созданного им нового типа культуры он начинает воспроизводиться уже без этих специфических идейных оснований, отрывается от них. Он сам уже ищет для себя и создает идейные и культурные основания, разные в разных культурных традициях, перерабатывает разный культурный материал. При этом он сталкивается с разного типа трудностями, разным и по степени и по форме «сопротивлением материала». И все успехи капитализма, все те «экономические чудеса», которые так бередят нашу душу, равно как и не отделимые от них в конечном счете «успехи демократии» — результат успешного преодоления этих трудностей, успешной переработки этих традиционных материалов.
Японское экономическое чудо — это результат современной, нетрадиционалистской переработки японской феодальной преданности и обостренного чувства чести и долга. Тайваньское, а теперь уже в какой-то мере и континентально-китайское, — базируется на немыслимом традиционном трудолюбии китайского крестьянина, на вошедшем в плоть и кровь конфуцианском морализме. Но при этом становление другого аспекта современного общества — политической демократии, опять-таки в силу особенностей китайской традиции, дается Китаю особенно трудно. Зато именно здесь велики успехи Индии, где они основываются на громадной традиционной терпимости индуизма, традиционной привычке к мировоззренческому плюрализму.
Этот процесс выработки своего варианта свободно-ответственной личности — сложнейший и мучительный процесс самовоспитания. Его нельзя подменить ни заимствованием чисто внешних атрибутов западной цивилизации или ее чисто технических достижений, ни даже переносом западных политических и экономических.институтов, которые без адекватной культурной, моральной, психологической основы просто не работают, ломаются или приобретают уродливые формы (как процесс взросления нельзя подменить заимствованием каких-то манер взрослых, вроде курения, или усиленной имитацией взрослого поведения — хотя для детей естественно стремиться идти по такому легкому пути достижения «взрослости»). Это всегда — творческий процесс, процесс поисков своих путей.
Наша история и наша культура не способствовали выработке необходимых для «успешного» современного общества привычек и мотиваций. Мы — народ, почти без перерыва перешедший от крепостного права и самодержавия к коммунистическому тоталитаризму. Привычки к свободному труду и к демократическому правопорядку у нас не сложились. Наш «исходный материал» относительно труден для переработки. Но, во-первых, другого просто нет, а во-вторых, хотя свои недостатки и трудности надо признавать, преувеличивать их тоже не следует. Определенная культурная и психологическая база для становления богатого и свободного общества, о котором мечтали наши демократы, в России есть.
У нас в какой-то мере сохранились чисто традиционалистские, крестьянские трудовые мотивации, некоторая привычка к тяжелому труду. Этим мотивациям не хватало «открытости» новому, творческого начала, умения не просто монотонно и тяжело трудиться, а трудиться эффективно, не хватало перспективы, связи между трудом и успехом, благосостоянием. Но сама эта способность к тяжелому труду – уже определенная база. Именно на модернизации такой «традиционалистской» базы крестьянской привычки к труду строится успех китайской реформы. И хотя коммунизм разрушил очень многое из того психологического и культурного «багажа», который мы накопили к 1917 году и на основе которого можно было осуществить переход к свободному обществу, за годы советской власти мы накопили и некоторый новый багаж. Прежде всего — это высокий уровень науки и образования, высокий (во всяком случае, он был таким до последнего времени) престиж образования и интеллектуального труда. (Здесь у нас были огромнейшие преимущества перед многими странами ^третьего мира», которые, если сохранятся теперешние тенденции, скоро нас обгонят.) За годы советской власти сформировался колоссальный слой интеллигенции, культурно и психологически более или менее готовый к политической демократии (хотя и очень мало готовый к рынку). Специфически коммунистические (но имеющие традиционную основу, традиционные корни) высокие трудовые мотивации — готовность работать во имя чего-то большого и отдаленного (прогресса, Родины, народа), не полностью исчезнувшие в ходе распада коммунистической идеологии, — это тоже определенный «багаж». Таким же «багажом» являются и глубоко вошедшие в народное сознание марксистско-ленинские лозунги, которые были не просто демагогией, но и «психологической реальностью», предметом веры — что «всякий труд почетен», «от каждого по способностям, каждому по труду», что люди — равны, что власть должна служить народу. Все это — моральный, культурный, психологический капитал уже «нарощенных», накопленных предпосылок свободного правового общества, свободной и эффективной экономики, а если разобраться — единственный реальный капитал нации.
Мне думается, что-либо «хорошее» можно было строить лишь на этой базе. Привычка крестьянина к труду — это база, но этот труд надо сделать осмысленным, результативным. Способность работать для Родины и будущего — тоже база, только будущее должно быть не мифологическим коммунизмом, а открытым будущим, Родина — не «начальством», а твоей страной, законы которой устанавливаются самим народом. Пустые советские слова о власти народа, о человеке труда и т. п. были своего рода готовыми формами, которые можно и надо наполнить реальным содержанием.
И в начале перестройки «что-то в этом роде» было. В андроповской «предперестройке» первые осторожные шаги, направленные на идеологическую и экономическую либерализацию, сочетались с морализмом и законническим духом, принимавшими даже гротескную форму. Ранняя горбачевская перестройка продолжала ту же линию, линию на возрождение чуть ли не раннебольшевистского «аскетизма» в сочетании с идейной и экономической либерализацией. Можно сколько угодно смеяться над антиалкогольной кампанией, но смысл ее был моральный, а не фискальный. Такой же моральный и правовой смысл имела борьба с коррупцией и привилегиями аппарата. Равным образом стремление войти в «общемировую цивилизацию» сочеталось с поисками каких-то своих форм этого вхождения (то рациональное зерно, которое было во фразах о «преимуществах социализма»), попыткой войти в круг «респектабельных стран» не через подражание им, а со своими идеями («новое мышление»). Внешняя марксистская традиционность сочеталась при этом со значительно меньшим догматизмом и большей «открытостью», чем в пришедшей на смену раннеперестроечным идеологическим поискам идеологии радикального антикоммунизма, внешне разрывающей с марксизмом, но фактически,, как мы это старались показать, сохраняющей истматовский схематизм мышления.
Реальный выбор в эпоху ранней перестройки, очевидно, был между «марксистской реформацией», сохраняющей и даже подчеркивающей символику и традицию, но подрывающей марксистскую мифологическую схему, ту «сказку со счастливым концом», в которой герой достигает молочных рек и кисельных берегов, овладев «волшебным даром», знанием правильной формы собственности, и «перевернутым марксизмом». «Перевернутый марксизм», наоборот, разрывает с символикой, но сохраняет мифологическую схему. И я думаю, что первый путь скорее привел бы нас к «нормальному» демократическому обществу со свободной экономикой, к обществу «западного» типа. Совершенно так же, как в свое время сохранение монархии в России скорее могло бы привести к успешной модернизации, чем радикальный разрыв с прошлым, произошедший в 1917 году и приведший как раз к сохранению и усугублению самых «реакционных», препятствующих модернизации сторон этого прошлого. И как когда-то, очевидно, сохранение и постепенная трансформация институтов допетровской Руси опять-таки скорее привели бы нас к глубокой модернизации, чем петровская революция сверху.
Почему же мы все-таки не пошли по пути ранней перестройки, почему развитие пошло от «аскетизма», морализма и законничества, от попытки выработать какой-то свой аналог «протестантской этики» через невесть куда затем подевавшегося «архангельского мужика» к героям рекламного ролика: «Мы здесь сидим, а денежки идут»? И почему оно пошло от раннегорбачевского подчеркнутого и утрированного «ленинизма» к «оголтелому», как когда-то говорили, антикоммунизму?
Когда историческая развилка уже пройдена, всегда возникает иллюзия, что избранный путь был единственно возможным, и находятся сотни объяснений того, почему мы не могли выбрать другого пути. Это впереди обычно все темно и непонятно, а позади — все понятно и «закономерно». Не будем поддаваться этой иллюзии и утверждать, что все было так, как и должно было быть. Но тем не менее вполне можно показать, какие силы толкали нас на выбранный путь.
Прежде всего — это предельная слабость марксистской идеологии, за годы своего монопольного господства утратившей свои «адаптационные» способности. Путь ранней перестройки — это путь «реформации». Но реформировать можно лишь то, во что ты веришь, что для тебя действительно ценно. Когда же в Политбюро марксистской партии, как выяснилось позже, чуть ли не единственным марксистом был Е. Лигачев, то ясно, что возможности «марксистской реформации» были крайне ограниченны. В низах же интеллигенции накопились сильнейшие «антимарксистские чувства», сочетавшиеся с «марксистской психологией» и привычками мышления. И с приходом гласности и демократии этот «перевернутый марксизм» устремился наружу со страшной силой, сметая на своем пути предельно слабое марксистское сопротивление. Во-вторых, марксистская «реформация» шла вразрез с интересами бюрократии, ибо означала борьбу с коррупцией и привилегиями, что-то вроде возрождения раннебольшевистского аскетизма, в то время как «перевернутый марксизм», утверждавший, что самое главное — приватизация, открывал колоссальные возможности обогащения и «красивой» жизни.
Если идеология ранней перестройки была «туманна», много требовала, но не давала «ясной перспективы», то идеология «перевернутого марксизма» указывала простой и ясный путь. И действительно, выработать уважение к праву и высокую трудовую мораль — неизмеримо труднее, чем денационализировать государственную собственность. Но этот простой и ясный путь в громадной мере был путем «не туда».
Новая идеология не пыталась строить на уже нажитом нацией «изначальном капитале» трудовой этики, культуры, а стремилась, как и большевизм, быстро и любой ценой прийти к всеобщему счастью, внедряя «правильную» форму собственности. И хотя на этом пути она, конечно, тоже создает какие-то предпосылки для будущего «нормального» общества (коммунисты ведь также определенные предпосылки создали; вообще развитие непрерывно, оно не прекращается), новая идеология одновременно разрушила, растратила очень многое из уже накопленного капитала. Утверждая, что частная собственность и рынок сами собой принесут богатство и счастье, она фактически санкционировала нечестное и нетрудовое наживание денег, подрывая самую высшую ценность нации, расточая ее самый основной капитал — способность к честному свободному труду и уважение к праву. Мы не создали моральной санкции предпринимательства, что возможно только тогда, когда предпринимательство «морализовано», когда труд предпринимателя — честный и в некотором роде «бескорыстный», ибо выше всего — «дело», и нажитые деньги идут не на престижное потребление, а вновь в «дело». Вместо всего этого в России дана идеологическая санкция жульничеству и воровству. Мы не развеяли, а укрепили в сознании народа создававшийся коммунистической пропагандой карикатурный образ капитализма и «буржуазной демократии». Мы разрушили или почти разрушили все то, где имелись реальные достижения и преимущества, — науку, высокотехнологические производства, систему образования. Мы подорвали основную социальную базу демократии — громадный интеллигентский средний класс, став обществом с разрывом между богатыми и бедными не западных, а «третьемировских» масштабов.
Сейчас, мне думается, уже ясно, что наша рыночная экономика так же не удалась, как не удалась и наша демократия, а оба эти слова стали едва ли не ругательствами для миллионов наших соотечественников. Основа наших неудач — не в тех или иных экономических просчетах. Основа — идейная, моральная, правовая. Нельзя создать успешной рыночной экономики, если слова «честный труд» произносить стало, смешно и неприлично. Их у нас может произнести сегодня разве что анпиловец, принципиальный противник рынка. Нельзя создать такой экономики, если в обществе нет правопорядка, экономические отношения регулируются неправовым путем и государство само подает пример неправового и нечестного поведения. Нельзя создать такой экономики, если в глазах народа (а в громадной мере так и есть на самом деле) вся частная собственность — наворованная и, следовательно, нелегитимная. И естественно, что как в этих условиях, в этом «моральном климате» не может быть нормальной капиталистической экономики, так в нем не может быть и демократии.
Задачи, которые сейчас стоят перед нашей страной, кажутся мне даже более сложными, чем те, что стояли в период перестройки. Вернее, задачи все те же, но решать их предстоит в значительно более сложных условиях, ибо шанс на относительно легкое их разрешение мы уже упустили. Тогда, на рубеже 80-90-х годов, для создания эффективной рыночной экономики надо было «всего лишь» постепенно вводить рыночные механизмы и частную собственность. И можно было сделать так, чтобы эта частная собственность была трудовой, а не криминальной. Сейчас уже сформировался насквозь криминализированный капитализм, и что с ним делать — непонятно. Тогда надо было «всего лишь» вводить и расширять демократию. Сейчас — даже если мы избавимся от сегодняшнего «вялого авторитаризма» — надо будет освобождаться от мафиозных банд в политике, от мощной антидемократической реакции, от разочарования в демократии и апатии. Мы могли совершить переход к нормальному обществу демократии и рынку от общества более или менее такого же, как в Чехии или в Венгрии. В дальнейшем же нам, вероятно, придется совершать такой переход от общества, разъеденного преступностью и коррупцией. Последнее, мне думается, неизмеримо труднее. В очередной раз в нашей истории мы оказались в тупике, в состоянии, при котором нельзя просто жить, трудиться, развиваться, а из которого надо мучительно «выбираться».
Сказанное выше — не «критика ошибок» наших демократов, ибо назвать нашу антикоммунистическую идеологию «ошибкой» так же трудно, как назвать «ошибкой» Октябрьскую революцию. Она слишком естественна для страны с нашей историей и культурой, чтобы ее можно было списать как ошибку. И хотя шанс на другой вариант развития, вероятно, имелся (возможно, он был и в 1905-1917 годах), избранный нами путь — очень естественен и очень национален. Это уже третий раз в нашей истории, когда мы, радикально-символически разрывая с прошлым (и именно в этом сохраняя его худшие черты) и думая, что у нас в руках — «ключ» к успехам западного общества, пытаемся рывком, единым волевым усилием «догнать и перегнать» Запад. И каждый раз выясняется, что мы взяли «что-то не то» и одновременно разрушили очень многое из того, что действительно могло бы стать базой для нашей реальной, а не символической модернизации. Каждый раз мы обманываем себя и заходим в очередной тупик. Это наш «культурный код», специфическая форма эволюции нашей культуры и одновременно наша специфическая трудность, основное препятствие, которое нам надо преодолеть, чтобы стать «нормальной страной» (ибо западные ценности уже перестали быть западными, это просто общечеловеческие ценности современности).
Сейчас большинство народа с ностальгией вспоминает о советском прошлом и хотело бы, возможно, окончательно «убежать от свободы». Но убежать от нее надолго все равно не удастся. Ибо демократия, включая сюда и экономическую свободу, рынок, — это в современном мире просто «нормальность», взрослость культуры, способность народа управлять самим собой, как способен в отличие от ребенка или умственно неполноценного управлять собой нормальный взрослый человек. Стремление к ней исчезнуть не может, и, только достигнув ее, общество может «успокоиться». Поэтому после какого-то периода усталости и упадка, а может быть, и какой-то «антидемократической истерики» («не получается и не надо, плевать мы хотели на вашу демократию») в нашем обществе обязательно возникнет стремление «попытаться еще раз». Но к этой попытке надо готовиться уже сейчас.
Следует понять, что рыночная экономика — просто часть, аспект, а отнюдь не «базис» современного общества, что успешной эта экономика может стать лишь при господстве права, а это господство права в конечном счете неотделимо от демократии. Надо понять, что ничто не возникает само собой, что «из воздуха» может сделать богатство отдельный жулик, но нация может создать богатство, как ни «вульгарно» и «пошло» это звучит сегодня, только честным, свободным и творческим трудом. И стремиться надо не к богатству, а к условиям, при которых можно нормально и честно трудиться; богатство же придет как естественный результат такого труда. В начале перестройки один из оттесненных впоследствии «марксистами навыворот» идеологов экономической реформы, академик Л. Абалкин, сказал: «Как работаем, так и живем». Я думаю, что это — та нехитрая мораль, которую можно извлечь из наших экономических экспериментов и которой предстоит стать основным лозунгом нашего будущего экономического реформирования.



