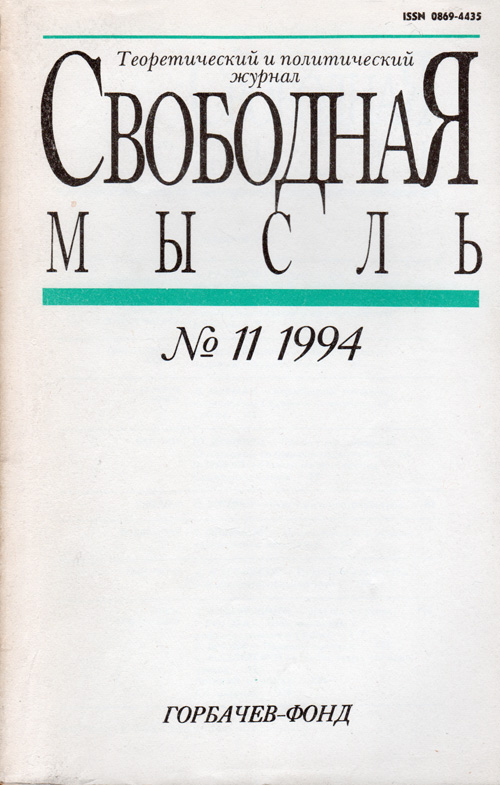 Карабахский конфликт: национальная драма и коммунальная склока
Карабахский конфликт: национальная драма и коммунальная склока
№ 11 1994
PDFфайл
ВЕЛИКИЕ КОНФЛИКТЫ между нациями подчиняются в основном той же логике, что и «маленькие» конфликты между семьями или индивидами. Народ в целом не может быть умнее и добрее, чем его «средние» представители, наоборот, поведение народа часто оказывается более иррациональным, более подчиненным архаичным импульсам, чем поведение простых людей (ясно, например, что средние немцы или русские были значительно лучше и «нормальнее», чем гитлеровский и сталинский режимы). Поэтому если мы хотим разобраться в карабахском конфликте, то следует исходить из более или менее знакомой всем нам ситуации – ссоры в коммунальной квартире или соседей в деревне, или на работе.Это не «редукция» великого и романтического к прозаическому и низменному, ибо коммунальная склока – тоже трагедия, здесь также мучают друг друга люди, также обманывают друг друга и сами себя, здесь та же последовательность долго накапливаемого раздражения (не столько на соседа, сколько на всю судьбу, на всю тяжелую жизнь, своеобразным символом которой оказывается сосед), затем внезапной вспышки и наконец – долгих мучений, скрываемых от самих себя сожалений и поисков выхода из становящейся все более невыносимой ситуации. Борьба наций – «масштабнее» коммунальной склоки чисто физически, но отнюдь не «глубже», не «умнее», не «возвышенней». Она, если так можно выразиться, трагичнее количественно, а не качественно.И это не упрощение, ибо склока может иметь очень глубокие основания. Чтобы разобраться, почему сосед А поссорился с соседом Б, может потребоваться изучение их биографий, психологии и т.д. Здесь столь же трудно (или даже просто невозможно) дойти до «исторической правды» – кто первый начал, сознательно ли провоцировал сосед А соседа Б, ставя свою кастрюлю на его конфорку, или просто не подумал, и действительно ли эта конфорка искони и по праву принадлежит соседу Б.Конфликт соседних наций и конфликт соседских семей или просто индивидов имеют общую природу. Просто «физические» параметры конфликта наций и остатки народнических и национально-романтических идеологий в нашем сознании способствуют «романтизации» национальных конфликтов. И наоборот, повседневность и скромные масштабы частных склок порождают отношение к ним, как к чему-то прозаическому и пошлому, подобно тому, как в средние века склока феодалов мыслилась чем-то очень возвышенным и могла воспеваться поэтами, а драка крестьян – чем-то низменным и могла изображаться этими же поэтами лишь фарсово, комедийно.Попробуем же, отрешившись от традиционных представлений о «великом» и «низменном», обрисовать логику и динамику карабахского конфликта как логику и динамику склоки.
В ЛЮБОМ КОНФЛИКТЕ всегда есть несоответствие формальных, внешних причин и причин глубинных, лишь частично осознаваемых или даже вообще не осознаваемых.
Скандал всегда имеет какую-то конкретную и рациональную причину. Он всегда из-за чего-то – из-за кастрюли, которая ставится на чужую плиту, кур, за которыми не смотрит сосед и они лезут в чужой огород, и т.п. Сознание участников конфликта, как правило, удовлетворяется этими объяснениями и фокусируется на них. Кастрюля или куры могут вытеснить из сознания человека все остальное, сконцентрировать и «структурировать» все его мысли и чувства. Но трезвое размышление обязательно покажет, что конкретная и рациональная причина не способна объяснить вспыхнувшей ссоры. В других коммунальных квартирах, например, кастрюли ставятся на любые свободные конфорки, и никаких скандалов не возникает, да и в этой квартире так было раньше, но почему-то скандалов не было. Далее, само несоответствие причины и следствий – страшного и мучительного для всех скандала и всегда относительно «пустяковой» причины – говорит о том, что эта причина не может быть объяснением, что когда сосед А убивает соседа Б из-за того, что его куры залезают в огород, это «из-за» ничего не объясняет. Конкретная причина в таких случаях – это скорее предлог, предлог, ставший символом, структурировавшим сложнейшие психические процессы.
В карабахском конфликте мы видим то же несоответствие внешних, формальных и «проговариваемых» причин и причин глубинных, «не проговариваемых» и даже неосознаваемых. Внешне все представляется очень несложным. Есть НКАО, большинство населения которой составляют армяне и которая территориально фактически примыкает к Армении, но входит в состав Азербайджана. Армяне – и карабахские, и некарабахские – считают, что это несправедливо, и на рубеже 1987–1988 годов начинается массовое движение армян за передачу НКАО от Азербайджанской ССР Армянской ССР. Далее разворачивается цепь событий, приведших к теперешней ситуации, когда нет уже ни Армянской ССР, ни Азербайджанской ССР, а есть независимые Армения и Азербайджан, ведущие полномасштабную, с применением танков и авиации, войну, в ходе которой убито и бежало или было изгнано из родных мест и в Армении, и в Азербайджане значительно больше людей, чем все население Карабаха. Ясно, что роль первоначальной и формальной причины здесь совершенно аналогична роли прохода соседских кур в огород, повлекшего за собой поножовщину.
Сам по себе факт компактного проживания армян в Азербайджане на примыкающей к Армении территории не может быть необходимым и достаточным объяснением конфликта, ибо есть громадное количество примеров, когда ситуация – совершенно аналогична, а никаких конфликтов нет. У карабахских армян, правда, были еще и многочисленные конкретные претензии к Баку (трудности с приемом ереванского телевидения, невнимательное отношение Баку к армянским историческим памятникам и то, что ряд из них азербайджанцы объявляли древнеалбанскими, а не древнеармянскими, и т.д.). Но совершенно несомненно, что положение армян в Карабахе было лучше и они обладали большими правами, чем, например, азербайджанцы, так же давно и так же компактно проживавшие в Армении, в Зангезуре, как армяне – в Карабахе, но никакой автономии вообще не имевшие. Между тем никакого движения за присоединение к Азербайджану или хотя бы за автономию армянские азербайджанцы не создали; они были в 1988 году выкинуты из Армении, и сейчас все о них позабыли. Армяне в Грузии, в Ахалкалаки, проживают так же компактно, так же на территориях, примыкающих к Армении, и точно так же не пользуются никакой автономией. Но настоящий, кровавый конфликт возник все же с Азербайджаном, а не с Грузией. Кроме того, каковы бы ни были претензии карабахских армян, приведшие к конфликту, ясно, что эти претензии абсолютно не соизмеримы с непредставимыми во время возникновения конфликта его последствиями и всеми теми страданиями, которые пришлось пережить и им, и населению Армении и Азербайджана. Поэтому список претензий карабахских армян начала 1988 года в той же мере не способен ничего объяснить, как и подробное перечисление произведенных курами потрав не может объяснить последовавшей поножовщины. И уж тем более не объясняют конфликта все те горы обвинений и оскорблений, которые нагромоздили обе стороны, совершенно аналогичные тем потокам грязной брани, какими обмениваются обезумевшие соседи.
Чтобы разобраться в конфликте, мы должны отвлечься и от его формальных причин – поводов, и от его рационализации и идеологически-пропагандистских обоснований и попытаться представить психологические портреты участников, понять их психологическую динамику и особенности ситуации, в которой этот конфликт возник.
ЗАКАВКАЗЬЕ – ЭТО ДОВОЛЬНО ТЕСНОЕ «ОБЩЕЖИТИЕ», в котором по воле судьбы оказались соседями народы с очень разными культурами и разным прошлым. Нередко им трудно понять друг друга, поставить себя на место соседа и посмотреть на мир его глазами, и очень легко – обоюдно раздражаться и создавать фантастически негативные образы друг друга. Это нечто вроде тех московских квартир, где в 30–50-е годы жили вместе представители совершенно разных культур, иногда замечательно приспосабливавшиеся, но очень часто, напротив, – мучившие друг друга и превращавшие эти квартиры в подобие ада. Армяне и азербайджанцы культурно и психологически отличаются друг от друга не меньше, чем отличались оказавшиеся в одной коммуналке семья все утративших и измученных бывших дворян и семья приехавших из деревни недавних крестьян (или семья дворника-татарина, или семья перебравшихся из бывшей черты оседлости евреев).
Армяне – народ с очень древней и очень оригинальной культурой (оригинальной прежде всего из-за того, что его религия – это особая, армянская, ветвь христианства), очень сильным ощущением своей уникальности и ценности этой уникальности, но одновременно – с очень тяжелой судьбой. Когда-то, очень давно, существовали относительно большие армянские царства, воспоминание о которых одновременно и грело, и растравляло душу армян в годины невзгод, и которые превращались в их сознании во что-то совершенно грандиозное, разукрашивались фантазией, компенсирующей печальное настоящее грезами о прошлом и будущем. Но царства эти погибли давно, и уже многие столетия история армян – это история народа без государства, окруженного культурно чуждыми мусульманскими народами и подчиненного им, испытавшего множество страданий и унижений. Кто только (и сколько раз) не топтал армян и что самое унизительное – даже не борясь с ними, а борясь друг с другом, грабя их и сгоняя с места просто «мимоходом», чтобы «не путались под ногами», как это сделал Шах Аббас во время войны с турками. Кульминация этих страданий – зверский погром, устроенный армянам турками в 1915 году, образы которого вновь и вновь встают перед глазами армян.
Естественно, что у этого народа – сильное ощущение несправедливости и трагичности «армянской судьбы», комплекс культурного превосходства над соседями и одновременно – страха перед их многочисленностью и физической силой, острое ощущение униженности своего положения (когда-то был собственный дом, а сейчас – комната в коммунальной квартире), сложное и амбивалентное отношение к будущему. И ужас перед ним, перед неумолимостью «армянской судьбы», которая может принести повторение 1915 года, – и тогда время пребывания в советском общежитии будет казаться счастливым и спокойным. Смутные надежды на то, что, может быть, судьбу все-таки рано или поздно удастся переломить и стать народом, который никто топтать не посмеет, которого все соседи будут уважать и побаиваться. Такой народ – «трудные соседи», но азербайджанцы, которые сейчас искренне удивляются, чего этим соседям не хватало и для чего они все это затеяли, никогда не были в их «шкуре», никогда не переживали того, что довелось пережить армянам.
Азербайджанцы – люди с совершенно иной психологией и культурой. Они обладают значительно меньшим ощущением своей национально-культурной уникальности и ее ценности, которая девальвируется в их сознании ценностью принадлежности к громадным общностям – мусульманской и тюркской и ролью маленьких – семейно-клановых и локальных общностей. У них и в помине нет ощущения, никогда не покидающего армян, что ты окружен врагами, которые могут тебя просто уничтожить. У азербайджанцев нет великого имперского прошлого – никакой азербайджанской империи никогда не существовало – и нет компенсаторских мечтаний о такой империи. Как и другие народы мусульманской культуры, азербайджанцы относительно легко принимают реальность, уходя в «быт», в интересы семей и локальных общностей. Им очень трудно сплотиться вокруг общенационального дела, и принципиальное различие между поведением армян в Карабахе и из-за Карабаха, продемонстрировавших поразительное упорство и сплоченность, и совершенно пассивным и «страдательным» поведением азербайджанцев в Зангезуре наглядно демонстрирует различия психологии этих двух народов. Не обладая армянским упорством, порожденным чувством, что беды и страдания – в некотором роде «норма», «армянская судьба», а потому надо стойко переносить их, и главное – выжить, азербайджанцы легко вспыхивают и легко гаснут. Но азербайджанские «вспышки» могут принимать очень страшный, жестокий и бессмысленный характер. И хотя в ходе конфликта армяне показали, что древняя христианская культура отнюдь не мешает совершать чудовищные зверства, иррациональные кровавые погромные вспышки типа сумгаитской и бакинской для их поведения не свойственны. У армян и азербайджанцев, если так можно выразиться, разные типы иррациональности. Иррациональность армян относится к области мечтаний, страхов и целей, которые, тем не менее, могут очень рационально и последовательно преследоваться. Иррациональность азербайджанцев – это иррациональность быстрых эмоциональных переходов от бурной и судорожной активности к «опусканию рук», принятию реальности такой, какая она есть, и погружению в «быт».
Вот такие разные народы живут в кавказской «коммуналке»… И армяне и азербайджанцы – не монстры, какими они стали изображать друг друга, но и не ангелы, какими они стали изображать сами себя, а обычные люди, но люди – очень разные, которым жить рядом – трудно, но очень легко раздражаться на соседа и думать о том, как было бы хорошо, если бы он куда-нибудь делся.
Мы попытались – естественно, очень поверхностно – дать портреты участников драмы, которые уже в какой-то мере делают понятным возникновение в начале 1988 года скандала, перешедшего в поножовщину. Но этого, конечно, недостаточно. Надо еще понять, что подготовило вспышку, какие процессы ей предшествовали, и в какой ситуации она возникла.
ПОЧЕМУ КОНФЛИКТ возникает именно в 1987–1988 годах – ясно. До этого времени кавказская «коммуналка» пребывала под жестким и неусыпным контролем, была скорее «бараком», чем коммуналкой. Этот российский контроль, установившийся еще до возникновения на Кавказе наций современного типа, исчез на период гражданской войны в России. И как раз в это время на Кавказе вспыхнули армяно-азербайджанская и грузино-армянская (и разворачивалась армяно-турецкая) войны. После легкой победы большевиков над закавказскими государствами, предельно ослабленными раздорами, контроль установился в еще более жесткой форме, исключавшей любое открытое проявление национальных конфликтов. Но с течением времени он стал ослабевать, а с горбачевской перестройкой ослаб совсем. Период тотального контроля – это период, когда все процессы протекают латентно; когда раздражение не может иметь выхода и потому накапливается; когда бессилие в настоящем компенсируется мифами о великом прошлом и грезами о великом будущем. Ослабление же контроля и возникшая затем перспектива его полной ликвидации для армян (а активной, требующей стороной в карабахском конфликте, естественно, являются армяне) означали, что все накапливавшиеся страхи и мечты «приблизились к реальности». Весь сложнейший амбивалентный строй армянских чувств – страх свободы, которая неизбежно является свободой не только для тебя, но и для твоих бывших и потенциальных насильников, и надежда, что, может быть, на сей раз судьбу удастся переломить, взять ее в свои руки, стать не «объектом», а «субъектом» истории, – со страшной силой устремляется наружу.
Понятно и то, почему этот напор устремился не против каких-то других соседей, а именно против азербайджанцев. Азербайджанцы – отнюдь не главный исторический враг и злодей армянской истории. Для Х. Абовяна, например, таким врагом были персы (а не турки, изображавшиеся им чуть ли не сочувственно). После 1915–1920 годов в армянском сознании на первое место, естественно, выходят турки, память о 1915 годе вытесняет память о других бедах и насилиях. Определенную роль при этом играла и Москва, которая для обеспечения лояльности армян в какой-то мере помогала культивировать эту память – «вот от чего вас спасла Красная Армия и вот что вас ждет без России». Но в 1988 году Армения не была независимое государство. Воевать с турками армяне не могут (не говоря уже о том, что Турция входит в НАТО и вообще – сильная страна). В 1988 году армяне могли бороться лишь с каким-то внутрисоюзным и относительно слабым «эрзацем», «суррогатом», «символом» темных сил армянской истории.
Теоретически это могли бы быть и грузины. В 1918–1920 годах армяне боролись за территории, на которых они компактно проживали и проживают, но которые остались за Грузией. Эти территории вообще-то при каких-то обстоятельствах могли бы стать таким же источником конфликта, как и Карабах, и в 1988–1989 годах такой конфликт действительно намечался. Но конфликт с Азербайджаном был значительно более естественен и, если так можно выразиться, удобен. Во-первых, азербайджанцы этнически очень близки к туркам, в 1918–1920 годах были их союзниками и исповедовали идеологию пантюркизма. Их очень легко представить себе теми же самыми турками, которые устроили резню в 1915 году. (И это стало уж совсем просто, когда в обезумевшем, неожиданно для себя столкнувшемся с мощной армянской кампанией Азербайджане происходят сумгаитский, а затем и бакинский погромы и когда позже, чем армянское, и во многом как реакция на него, массовое националистическое движение в Азербайджане вновь принимает «тюркистскую» ориентацию.) Во-вторых, по причинам, которые сейчас являются предметом армяно-азербайджанской полемики, Карабаху Москва в 20-е годы предоставила статус автономной области, которого не имели ни заселенные армянами территории в Грузии, ни заселенные азербайджанцами – в Армении. Такой статус как бы подразумевал, что у армян есть особые права на карабахские земли, и свидетельствовал об этом перед всеми. А о том, что в Армении тоже есть земли, населенные азербайджанцами, большинство жителей СССР узнало только тогда, когда тех оттуда выгнали. Наконец, в-третьих, в борьбе с Азербайджаном армяне могли рассчитывать на поддержку влиятельных сил во всем СССР и даже во всем мире. В СССР в это время доминируют «антиимперские» и «западнические» настроения. Любой конфликт с любыми властями, любое проявление самостоятельности вызывают сочувствие. Уже это обеспечивало армянам поддержку. Но армяне – еще и христианский народ, с мощной западной диаспорой, почти «западный» народ, а азербайджанцы – мусульмане и вдобавок – шииты, единоверцы Хомейни, а следовательно – потенциальные «фундаменталисты». Доминирующие «западнические» настроения работали в пользу армян и «подбадривали» их.
Таким образом, накопившееся у армян общее недовольство своей судьбой, своей историей в ситуации резкого ослабления внешнего контроля, принимает наиболее естественную, «удобную» форму борьбы за Карабах. И, очевидно, именно потому, что весь накопившийся «конфликтный потенциал» уходит в русло борьбы с азербайджанцами, ряд других конфликтов не состоялся. Не произошло масштабного армяно-грузинского конфликта, у армян сложились хорошие отношения с Ираном и даже началось нечто вроде диалога с главным историческим врагом – Турцией. Канализация конфликтного потенциала в одном азербайджанском направлении ослабляет потенциальную конфликтность других направлений. Возможно, нечто в этом роде происходит и с азербайджанцами, которым карабахский конфликт не позволяет выдвинуть на передний план идею освобождения южного, иранского Азербайджана и объединения с ним. Когда в коммуналке сосед А бросается на соседа Б, сосед В может быть спокоен – на него бросаться не будут, более того, скорее всего перед ним будут заискивать и пытаться сделать союзником.
ЛЮБОЙ СКАНДАЛ, ЛЮБАЯ СКЛОКА, при всем бесконечном разнообразии конкретных причин, поводов и проявлений, всегда проходит через определенные, закономерно сменяющие друг друга стадии. Таких стадий, очевидно, четыре.
Первая стадия – это латентное накопление конфликтного потенциала, стремящегося вырваться наружу и как бы «ждущего» удобного момента. Когда именно начинается эта стадия карабахского конфликта, точно сказать невозможно, ибо конфликты армян с соседями, в том числе и с азербайджанцами, с приходом советской власти не были разрешены, а были лишь прекращены внешней силой. Ясно лишь, что по мере ослабления коммунистической идеологии и советской системы этот никогда полностью не исчезавший, а лишь ушедший в «духовное подполье» конфликтный потенциал возрастал и все более стремился «наружу». Кончается эта стадия в конце 1987 – начале 1988 года.
Вторая стадия – выход этого конфликтного потенциала наружу – от первого проявления уже накопившегося раздражения вовне до того момента, когда обе стороны перешли к открытой борьбе на пределе своих сил и возможностей. Это самая «стихийная» и бурная стадия, когда вступивших на путь конфликта влечет неудержимая сила и они могут за минуту до того, как это произошло, не предполагать, что сейчас прольется кровь и все взорвется.
Все более слабеющий горбачевский центр пытается разнять дерущихся: но каждый, кто наблюдал подобные скандалы, знает, насколько неудержимо в это время стремление добраться до противника. Обе стороны, поначалу всячески льстившие Горбачеву, вскоре стали набрасываться на него, возмущаясь тем, что он не занимает «принципиальную», то есть такую, какую нужно каждой из этих сторон, позицию, и объясняя это упорное нежелание признать «очевидность» имперским стремлением «разделять и властвовать» и чуть ли не сознательным разжиганием конфликта. Между тем в реальности этот абсолютно не нужный горбачевскому руководству конфликт, погасить который, сохраняя демократические преобразования, было практически невозможно, становится одним из факторов, разрушающих сквозное государство, разрушающих объективно, помимо сознательных стремлений конфликтующих сторон. Первоначально вся стратегия обеих сторон строилась на давлении на Центр, и, насколько мне известно, самые крайние националисты и не помышляли, что через несколько лет этого Центра вообще не будет. Но стихия разворачивающейся борьбы, ее объективная логика вели к освобождению от всего того, что мешало конфликту «развернуться» на полную мощность – от союзных структур и «союзной идеологии».
Конфликт радикально меняет облик обоих обществ. В начале конфликта существует не только не проявлявшееся ранее, но накапливавшееся напряжение в армяно-азербайджанских отношениях, но и напряжение между официальной, внешней идеологией «марксизма-ленинизма» и реальными, глубинными национальными идеологиями. Собственно, это две стороны, два аспекта одного и того же напряжения, и выход наружу накопившегося конфликтного потенциала неизбежно означал и разрушение официальной идеологии и всего основанного на ней строя, падение компартий и приход к власти новых националистических сил: в Армении – Армянского общенационального движения (АОД), в Азербайджане – Народного фронта Азербайджана (НФА). С обретением независимости и приходом к власти националистических сил, так сказать, приведением формы обществ в соответствие с содержанием, заканчивается вторая стадия цикла – стадия выхода наружу конфликтного потенциала, начинается третья стадия.
Третья стадия – это открытая война, когда конфликтный потенциал уже «актуализировался» и дальнейшая эскалация конфликта становится уже невозможной. Конфликт может лишь расширяться, если в драку вступят новые участники, но «углубляться» ему уже больше некуда. Эта стадия, естественно, самая кровавая. Но именно на ней возникает реальная возможность «деэскалации» и движения к миру.
Конфликт сопряжен с колоссальными затратами человеческой энергии, и у народов неизбежно возникает усталость. До бесконечности поддерживать предельное напряжение третьей стадии просто невозможно. Но путь к миру открывает и внутренняя перестройка обоих национальных организмов, произошедшая на второй стадии.
На этой стадии, стадии стихийного выплеска накопившейся энергии, переговоры вести еще просто некому. Толпы не могут вести переговоры, а коммунистические правительства могли вести их сколько угодно, но толку от этого быть не могло, ибо правительства эти никого уже не представляли, ситуации не контролировали и ощущали на своих затылках горячее дыхание рвущихся к власти националистов, готовых при любом проявлении ими уступчивости поднять крик о том, что коммунисты – предатели национальных интересов и московские марионетки. Но когда эти националистические силы уже пришли к власти (причем пришли к власти на эскалации конфликта), когда перед ними встают новые задачи – не разрушения, а созидания, государственного строительства, дальнейшая эскалация им становится уже больше не нужной. Более того, у них возникает реальный интерес к поискам выхода из тупика, в который они до этого упорно загоняли свои страны. Возникает возможность перехода к четвертой стадии естественного цикла конфликта – стадии поисков мира.
Первые признаки перехода к этой стадии, мне думается, были видны уже зимой 1992–1993 годов, когда после успехов азербайджанцев летом 1992 года на фронте воцарилась позиционная война, в Армении президент Л. Тер-Петросян активно пропагандировал идею необходимости коренного перелома во всем армянском мироощущении, дружбы с соседями и диалога с Турцией, и началось пацифистское движение («Нор ути»), что очень характерно – в АОДовской среде, требующее переговоров на высшем уровне и без посредников. А в Азербайджане в это время тогдашний президент А. Эльчибей делал реверансы в армянскую сторону, говоря об уме и трудолюбии армянского народа, республика которого, если бы не война, «была бы сейчас самой богатой и процветающей республикой на территории бывшего СССР». Однако армянское кельбаджарское наступление весной 1993 года и путч С. Гусейнова – Г. Алиева, приведший к свержению народнофронтовского правительства, отдалили эту перспективу, и зима 1993–1994 годов проходит под знаком резкого усиления военных действий и все более очевидного перевеса армян – лучше вооруженных, но, вероятно, главное – более целеустремленных и стойких. Наконец в мае 1994 года устанавливается перемирие, длительность соблюдения которого говорит, очевидно, о полном истощении обеих сторон.
События 1993 года демонстрируют, на наш взгляд, всю сложность перехода от третьей к четвертой стадии. Даже абстрагируясь от двусмысленной роли внешних сил, о которой мы будем говорить ниже, в самих воюющих странах, наряду с несомненно усиливающимся тяготением к миру, действуют сильнейшая инерция войны и силы, воплощающие эту инерцию и активно стремящиеся продлить войну. Что же это за инерция и что это за силы?
Война истощает силы народов, порождает усталость и стремление к миру. Но одновременно война превращается в привычное, устойчивое состояние, выход из которого, как это ни странно звучит, может быть страшен. Дело в том, что так просто из войны не выйдешь, это требует переосмысления себя и своих действий. Выйти из войны, тем более если настоящей, «серьезной» победы нет (а совершенно очевидно – настоящей победы в этой войне не может быть ни для одной из сторон), это обязательно означает признать ее бессмысленность, то есть бессмысленность своего собственного поведения, а это для людей психологически может быть даже страшнее, чем продолжать проливать кровь – свою и чужую.
Но если переход к миру может быть страшен и для народов в целом, то для отдельных общественных групп он может быть предельно страшен, стать личной катастрофой. Это и те из политиков, пришедших к власти на лозунгах эскалации конфликта, которым психологически особенно трудно перейти от роли «ястребов» к роли «голубей» и которые могут опасаться, что в условиях мира они легко могут стать «козлами отпущения» («вот кто втянул нас в эту бойню ради власти и своих корыстных интересов»), и всякого рода полубандиты-полународные герои и дельцы, наживающиеся на войне (попытка А. Эльчибея навести порядок в армии, несомненно, явилась одной из причин его свержения).
Очевидно, особую проблему, с точки зрения наступления мира, представляют карабахские власти – конечно, не в силу какой-то их особой кровожадности, а в силу особенностей их объективного положения. Когда Армения стала независимым государством, от лозунга Миацума (объединения с Карабахом), с которым АОД шел и пришел к власти, пришлось отказаться, ибо теперь этот лозунг означал бы просто недопустимые современным международным правом территориальные претензии к другому государству. Поэтому лозунг этот «отодвинули», и была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика (НКР). Казалось, это снимает все обвинения в агрессии и в какой-то мере освобождает Л. Тер-Петросяна от мучительной работы по поискам мира («пусть договариваются с Карабахом»). Но хотя самостоятельность НКР значительно более фиктивна, чем это изображает Ереван, и естественно, что сам вести войну Карабах не может и не ведет, все же эта самостоятельность и не такая фикция, как ее изображают азербайджанцы. В определенной мере карабахские власти, несомненно, самостоятельны, и если настоящую войну они долго вести не смогли бы, то уж сорвать соглашение о перемирии силы у них всегда найдутся (как это произошло дважды в 1991 году с перемириями, заключенными при посредничестве Ирана, и как, вполне возможно, это случилось и с кельбаджарским наступлением). Между тем инерция войны в Карабахе, естественно, сильнее, чем в Армении, и для карабахской верхушки объективно мир может принести лишь резкое понижение социального статуса – от уровня государственных лидеров, ведущих переговоры в Риме и Женеве, к которым прикованы взоры армян всего мира, до уровня людей, коим вряд ли удастся удержаться у власти в автономном районе, о котором, если там не будет идти война, мир вскоре едва ли не полностью позабудет. Соотношение между Карабахом и Арменией – совершенно такое же, как между Сербией, где пришедший к власти на лозунгах национального конфликта С. Милошевич сейчас стремится удержаться у власти на лозунгах мира, и Сербской Республикой Боснии, где Р. Караджич знает, что мир среди прочего означает и его собственное исчезновение с экранов телевизоров и, очевидно, вообще из политики.
Переход от третьей к четвертой стадии – очень труден, но он, несомненно, происходит. И, очевидно, в этот период особую роль начинают играть «третьи силы», соседи. На втором этапе, когда происходит «извержение» накопившегося конфликтного потенциала, возможности миротворчества очень ограничены. В это время можно лишь стать между рвущимися к горлу друг друга сторонами. Но здесь нужны колоссальные сила и решимость, ибо, чтобы остановить децентрализованные, хаотические действия, нужно очень много войск и готовности проливать кровь. Слова и уговоры в этот период не действуют, и тот, кто пытается разнять рвущихся в бой, вполне может получить с обеих сторон, что, собственно, и произошло с М. Горбачевым. Но когда возникает усталость, появляются тайные сожаления о том, что произошло, и мечты о мире, люди начинают «посматривать по сторонам» в надежде, что найдется кто-то, кто облегчит переход к миру, поможет выйти из тупика. В этой ситуации роль потенциальных миротворцев «со стороны», вообще роль окружения, усиливается. Посмотрим же теперь на эту роль других стран, непосредственно в конфликте не участвующих.
НАШЕ СРАВНЕНИЕ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА со скандалом в коммунальной квартире – это не просто литературный прием. Скандал – это «модель» такого рода конфликтов, это практически тот же конфликт, но в миниатюре. Поэтому мы вполне можем продолжить это сравнение.
В закавказской коммуналке живет еще третья семья – грузинская. Но она настолько погружена в свои внутренние конфликты и доведена этими конфликтами до такого жалкого состояния, что в карабахском никакой роли играть не может и не желает.
Но закавказская коммуналка – часть огромного дома, в котором – множество квартир и есть что-то вроде постепенно вырабатывающихся правил общежития. В этом доме есть очень влиятельные и богатые семьи, которые претендуют на роль создателей и хранителей порядка, и чей голос в карабахском конфликте мог бы быть решающим. К несчастью для армян и азербайджанцев, эти семьи живут в квартирах, очень далеких от закавказской, и лезть в скандал, прямо их не затрагивающий и о сути которого они имеют лишь очень смутное представление, им не очень-то хочется. Их действия в карабахском конфликте в значительной мере формальны и скорее предпринимаются «для очистки совести».
Поэтому главную роль играют непосредственные соседи – Россия, Турция, Иран. И прежде всего, конечно, Россия, которая в своих предшествующих ипостасях – Российской империи и СССР – была фактическим хозяином Закавказья. Какова же роль этих соседей?
Если бы карабахский конфликт возник раньше, в конце прошлого или в начале нашего века, соседи наверняка сами вступили бы в драку, и вполне могла бы начаться большая война каких-то двух коалиций государств. В современном мире господствуют иные международные нормы и международные нравы, и все соседи наперебой призывают к миру, предлагая себя в роли посредников и гарантов этого мира и ведя бесконечные переговоры. Но действительно ли соседи хотят мира и способствуют ли их действия миру?
Как армяне и азербайджанцы – не монстры, какими они изображают друг друга, и не ангелы, какими они изображают себя сами, а обычные люди, мучающие друг друга и сами себя, так и соседи – вполне нормальные, обычные соседи. Они не звери и, несомненно, сожалеют о конфликте, и теоретически хотят мира в Закавказье. Но страны, как и индивиды, всегда хотят много и разного, в том числе и взаимоисключающего, и далеко не всегда сами знают, чего хотят.
Хочет ли, например, мира Иран? Наверное, хочет, и вряд ли бурная активность, развитая в 1991 году иранским министром иностранных дел Велаяти, была «ширмой», «дымовой завесой», за которой скрывалось разжигание войны. Но ясно, что Иран хочет не просто мира. Он стремится к миру, в заключении которого он сам играл бы важную роль, продемонстрировав всем свою значимость. Иран еще и опасается демократического светского прозападного режима в Азербайджане, боится быть окруженным со всех сторон антифундаменталистскими мусульманскими странами. Он страшится влияния, которое может оказать сильный независимый Азербайджан на многочисленных азербайджанцев в Иране. Но он побаивается и этих азербайджанцев, которые, как и вообще азербайджанцы, не очень националистичны, но если решат, что Иран помогает Армении, могут и взбунтоваться. Да и армянскую общину в Иране ему тоже нужно учитывать. Наконец, иранцы могут мечтать и о том, что азербайджанцы обратятся в истинный ислам и станут настоящими шиитами. Может существовать и еще множество иных опасений и надежд. Ясно, что руководствующийся такими разными стремлениями и опасениями сосед не может быть особенно эффективным посредником.
Наверняка хочет мира и Турция. Но и у нее не может не быть множества всяких «дополнительных соображений». И страх, что армяне, завоевав Карабах, решат, что это только начало, и вознамерятся в той или иной форме приняться за Турцию, помогая, скажем, курдскому сепаратизму и строя всевозможные комбинации, чтобы заполучить свои старые земли, и, наоборот, надежда на то, что армяне успокоятся и об этих землях позабудут. И сочувствие азербайджанцам – братьям по крови и языку. И честолюбивые мечты стать «старшим братом» в семье неожиданно, с распадом СССР, оказавшихся независимыми тюркских наций и т.д., и т.п.
Наиболее «загадочна», однако, роль в карабахском конфликте страны, от которой Армения и Азербайджан зависят больше, чем от какой-либо другой – России. На первый взгляд роль эта или абсурдна и «шизофренична», или немыслимо «макиавеллистична». Дело в том, что обе стороны воюют оружием, полученным при разделе Советской Армии и продолжающим поступать от России (вернее, от российских военных), причем крупные наступательные операции прямо связаны с усиленными поставками, с обеих сторон воюют российские наемники и помогают российские советники. «Российский след» виден в обоих азербайджанских переворотах. В какой-то мере в перевороте, приведшем к власти НФА, когда Россия явно «списала» А. Муталибова, лишив его поддержки, но одновременно забрав к себе и спрятав на всякий случай в Москве. И очень отчетливо – в путче С. Гусейнова и Г. Алиева, свергнувшем народнофронтовское руководство, после чего Россия добилась вступления Азербайджана в СНГ и доступа к азербайджанской нефти. Одновременно Россия развивает бурную миротворческую деятельность, стремясь стать гарантом мира (лучше всего – единственным) и для его поддержания обязательно ввести в Азербайджан выведенные при А. Эльчибее российские войска.
Все это легко интерпретировать как игру в «разделяй и властвуй» и стремление наказать националистический Азербайджан, вернуть его под свою эгиду (Армения при всех попытках Л. Тер-Петросяна вести самостоятельную политику все же слишком отдаляться от России опасается и в отличие от Азербайджана о выводе российских войск и не помышляет). Но в какой-то мере этот «макиавеллизм» может быть и «оптическим обманом», и то, что кажется сложной и тонкой игрой, во всяком случае, частично является просто результатом неразберихи и хаоса. Постсоветская Россия – общество с очень неопределенной и хаотичной политикой, особенно в ближнем зарубежье. Эта хаотичность проистекает из двух основных причин.
Во-первых, из-за очень слабой централизации нашей внешней политики в постсоветском пространстве. При всем своем стремлении к авторитарной централизации российские центральные власти лишь в минимальной степени способны контролировать деятельность местных властей, крупных чиновников, военных, которые в значительной мере могут вести «свою собственную внешнюю политику». В то же время на территории бывшего СССР сохраняется единая русскоязычная номенклатурная элита, единое «пространство» пересекающихся, переплетающихся номенклатурных и номенклатурно-мафиозных связей, каналов, по которым идет постоянное «броуновское движение»: кто-то у кого-то чего-то добивается – по старой дружбе, за деньги, за помощь в карьере, шантажируя и т.п. В этих условиях роль российского МИДа (как и МИДов других постсоветских республик) может быть очень ограничена. МИДовцы сами, насколько можно понять, не очень стремятся влезать в темные дела постсоветского пространства, предпочитая, что, впрочем, совершенно естественно, красивые страны дальнего зарубежья с конвертируемой валютой. К тому же в ближнем зарубежье они не так много могут и сделать. Было бы смешно, например, если бы Г. Алиев, с его московскими связями, когда ему нужно достать новые танки или запчасти, или военных специалистов, действовал бы через МИДы. Связи в громадной мере устанавливаются между азербайджанскими или армянскими военными, номенклатурными деятелями, ставшими миллиардерами, мафиози и их российскими эквивалентами. Совершенно очевидно, что на карабахской войне, на поставках вооружений и людей наживаются многие миллионы, причем не государством, а «частными лицами». Поэтому поставки оружия и людей обеим воюющим сторонам – это не столько целенаправленная политика, сколько «естественный процесс», на который центральная власть предпочитает не обращать внимания, но с которым она, даже если бы и очень захотела, вряд ли бы смогла что-либо поделать. Равным образом несомненное участие российских военных в перевороте в Азербайджане, когда наши войска в Гяндже приютили мятежного полковника-мафиози, миллиардера С. Гусейнова и, покинув Гянджу, вооружили его до зубов, вполне может быть не заговором, «нити которого ведут в Кремль», а просто «личной инициативой» местного командования. Разобраться в том, кем и в какой степени делается российская политика в Закавказье, едва ли возможно, но практически несомненно, что Министерство обороны и даже просто отдельные генералы значат здесь не меньше, чем МИД и, может быть, сам Б. Ельцин.
Децентрализованность нашей политики, когда дипломаты могут вести переговоры о перемирии, не зная, что как раз в это время военные передают вооружение, при помощи которого это перемирие сменится наступлением (причем другие военные могут передавать оружие противоположной стороне), – один из источников хаотичности нашей внешней политики. Другой источник – неопределенность и противоречивость наших целей и приоритетов даже там, где эта политика централизована. Россия отказалась от СССР и противостояния Западу и поставила своей целью войти в сообщество «респектабельных» демократических стран. Но наши глубоко укорененные внешнеполитические импульсы, наши представления о том, в чем заключаются цели внешней политики, в громадной мере остались традиционными. Отказавшись от политики СССР, боровшегося за «сферы влияния» в таких странах, как Мозамбик и Никарагуа, Россия тут же, по инерции, потому что никакие иные цели внешней политики просто не «приходят в голову» (горбачевское «новое мышление» было незначительным эпизодом и, очевидно, воспринималось нашим внешнеполитическим истеблишментом не как реальная новая философия внешней политики, а как форма замаскированной капитуляции перед Западом), начала борьбу за «сферы влияния» в Таджикистане, Закавказье, Молдавии, стремясь очертить бывший СССР как «нашу зону», где мы – хозяева, и не допускать сюда других, единолично занимаясь «миротворчеством» во всех многочисленных конфликтах.
При этом, кроме общих соображений, что мир в Закавказье должен быть под нашей эгидой, других достаточно ясных представлений о том, каким же должен быть этот мир, у нас, похоже, нет. «Идейные симпатии» руководства у нас также, очевидно, разделены. На стороне Армении – симпатии «демократов» и «либеральных демократов» В. Жириновского, а также то простое соображение, что не граничащая с нами и находящаяся в конфликте с соседями Армения – наш «естественный геополитический союзник» (геополитика коммунальной квартиры). На стороне Азербайджана – смутные «евразийские» идеи и просто опасение того, что если мы будем слишком уж поддерживать Армению, то можем в конце концов «потерять» Азербайджан.
В этих условиях с точки зрения так понимаемых «национальных интересов» и при таких противоречивых стремлениях продолжение карабахской войны является для нас скорее выгодным. Пока существовал СССР и московское союзное руководство предпринимало отчаянные усилия сохранить его, этот конфликт был для него опасен и вреден, ибо служил одним из проявлений и факторов дезинтеграции. На этом конфликте к власти в Армении и Азербайджане пришли националисты, из-за него оборвались партийные и государственные связи, соединявшие республики друг с другом и с Москвой. Но после распада СССР роль этого конфликта изменилась. Сейчас именно из-за конфликта в военном отношении обе стороны оказались в громадной зависимости от России. В экономическом смысле война также усиливает эту зависимость, особенно находящейся в блокаде Армении. Поэтому война из фактора «центробежного» превратилась в фактор «центростремительный», способствующий восстановлению роли Москвы как центра постсоветского пространства. Пока война идет – обе стороны будут, что называется, валяться у нас в ногах, вымаливая помощь. Таковы объективная реальность, объективная логика конфликта. Однако сказать, в какой мере она учитывается нашими политиками и определяет характер нашего миротворчества, разумеется, невозможно.
Мы попытались в какой-то мере обрисовать позиции соседей. На наш взгляд, при всей своей бурной миротворческой активности соседи эти, к сожалению, однозначно миротворческой силой не являются. Неопределенность их позиции, отсутствие у них достаточно ясных принципов, на основе которых могла бы идти их миротворческая деятельность, наличие у них симпатий и антипатий, желание «половить рыбку в мутной воде» и свалка, которую они устраивают вокруг роли миротворцев, отталкивая друг друга, способствуют скорее продолжению конфликта, чем его прекращению.
Тем не менее конфликт очевидным образом «выдыхается», и его четвертая стадия наступает так же неотвратимо, как в свое время наступала третья. И как третья наступила, несмотря на все несомненные (хотя и, несомненно, неуклюжие) усилия Москвы ее наступление предотвратить, так четвертая наступает, несмотря на то, что иногда миротворческие усилия «третьих сторон» более чем сомнительны. Перемирие соблюдается уже сейчас, и оно наверняка будет закреплено, и все это будет провозглашено победой и заслугой дипломатов, хотя на самом деле это скорее – «победа и заслуга усталости». Раз начавшись, конфликтный цикл проходит через все положенные ему стадии и подходит к концу. Что же будет дальше?
ТО, ЧТО КОНФЛИКТ (или, во всяком случае, данный цикл конфликта) идет к концу – это неизбежно и «безальтернативно». Но исход войны отнюдь не «безальтернативен», и судьба закавказских народов может в дальнейшем сложиться очень по-разному. На наш взгляд, есть два возможных исхода теперешнего конфликта.
Первый – это действительный мир, национальное примирение, когда через какое-то время оба народа будут вспоминать эту войну как страшную ошибку («бес попутал»). Второй – это превращение конфликта в нечто вроде циклической болезни, которая может временно «отпустить», но затем вновь возвращается. Это мир-перемирие, когда обе стороны собираются с силами для следующего раунда. От чего зависит тот или иной исход? Очевидно, от многих факторов, но прежде всего от того, как, в какой форме произойдет переход к миру.
«Настоящий» мир, очевидно, должен «вызреть». Он должен прийти не просто от бессилия и усталости, а от изменений в народном сознании, от переосмысления прошлого. Это должен быть мир, заключенный «настоящими» правительствами, которым народы доверяют и которые нельзя обвинить в «предательстве национальных интересов». Это должен быть мир, не навязанный извне, условия которого продиктованы кем-то третьим. Естественно, это должен быть мир, в котором нет победителей и побежденных, в котором ни для одной из сторон нет унижения, потери лица, которая обязательно будет вести к попыткам реванша. Идеальным примером такого рода мира, очевидно, являются кэмп-дэвидские соглашения, положившие конец конфликту, ничуть не менее глубокому, чем армяно-азербайджанский.
Мне думается – хотя я очень хотел бы ошибаться в этом, – что наилучший момент для заключения такого мира упущен. Такой момент был до кельбаджарского наступления армян и, во всяком случае, до гусейновско-алиевского переворота. Разумеется, усталость тогда была меньшей. Но имелся целый ряд других обстоятельств, создававших возможность «настоящего» мира: наличие в Азербайджане президента, пришедшего к власти путем демократических выборов, которого нельзя было упрекнуть, что он – российская марионетка и «продает родину»; успехи азербайджанцев летом 1992 года, когда они «смыли позор» предшествующих поражений, но одновременно успехи отнюдь не достаточные, чтобы можно было надеяться на полномасштабную победу, сочетавшиеся с сильным сопротивлением армян в Карабахе, что означало, что обе стороны показали себя «настоящими мужчинами», обе могли пойти на мир, «сохранив лицо»; проявлявшееся в это время в Армении стремление к радикальному переосмыслению традиционных психологических комплексов, естественно, ослабевшее после успехов на фронте. Может быть, прояви в тот момент Л. Тер-Петросян и А. Эльчибей, оба – люди, отнюдь не горящие национальной ненавистью, больше ума и мужества, история пошла бы иначе.
Сейчас положение иное. Теперешние власти в Азербайджане – совсем иного рода, чем народнофронтовская власть, и вряд ли они смогут возглавить движение за национальное примирение. Позиции Л. Тер-Петросяна стали слабее. Кроме того, победы армян практически исключили возможность мира, при котором обе стороны «сохраняют лицо». Перспектива мира-перемирия, превращения Закавказья в «Воронью слободку», в которой скандалы будут следовать один за другим, и где относительный порядок будет поддерживаться лишь постоянным присутствием или периодическим появлением не слишком бескорыстного российского милиционера, куда реальнее.
Ситуация в Закавказье сейчас несколько напоминает ситуацию 1920 года, когда было ясно, что мирная независимая жизнь не получилась, были сильная усталость и тайная готовность обменять свободу на какой угодно, пусть даже данный извне, но мир. Мир тогда пришел вместе с Красной Армией. Но это не только был мир, купленный дорогой ценой, но и мир, при котором национальная злоба не была преодолена и изжита, а оказалась лишь загнана в глубины сознания, продолжала там жить и не рассасывалась, а накапливалась, мир, в условиях которого уже была заложена теперешняя карабахская война.
Но полного повторения событий прошлого быть не может. Азербайджан и Армения уже не смогут полностью потерять независимость, а Россия не сможет так же основательно вернуться на Кавказ, как она вернулась в 1920–1921 годах. И так как деваться друг от друга все равно некуда (в отличие от жителей московских коммуналок, у армян и азербайджанцев нет никаких перспектив расселения), процесс переосмысления прошлого и отношения друг к другу у этих народов в конечном счете неизбежен. Чем скорее и интенсивнее он будет идти, тем скорее придет настоящий мир, тем скорее «Воронья слободка» превратится в нормальное человеческое общежитие.



