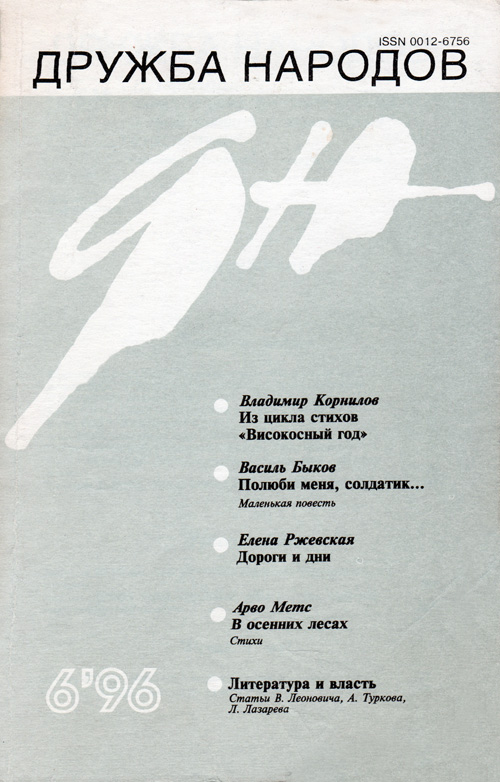ПАРАДОКСЫ БЕЛОРУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ
авторы: Дмитрий Фурман, Олег Буховец
№6 1996
Создание Союза Суверенных Республик, в составе России и Белоруссии — одно из проявлений процесса частичной реинтеграции «постсоветского пространства», его нового объединения вокруг России и Москвы. Когда в 1991 году республики бывшего Союза провозгласили свою независимость, они в значительной мере «забежали вперед». Реальных жизнеспособных национально-государственных организмов не существовало. Поэтому после «двух шагов вперед» сделан «шаг назад». Воссоздается объединение с центром в Москве, которое, однако, никогда уже не будет таким жестким и централизованным, каким был СССР. (Впрочем, и СССР был значительно менее «имперским» и на поздних этапах своей эволюции — значительно менее централизованным объединением, чем Российская империя.)
«Праздник» независимостей, естественно, сменился некоторым «похмельем». Некоторые «реинтеграционные» тенденции наблюдаются сейчас во всех республиках, но так далеко и с таким энтузиазмом по пути объединения с Россией идет только одна республика — Белоруссия. Удивительная картина, которая в течение последнего года разворачивалась перед нашими глазами, почти не имеет аналогов в истории. Ясно, что, как бы ни было юридически оформлено объединение России и Белоруссии, оно так же мало похоже на объединение «двух равных», как, скажем, гипотетическое объединение Германии и Люксембурга или Китая и Монголии. Это — «привязывание» Белоруссии к России, закрепление ее пребывания в «сфере российского влияния». Между тем если кто и «выворачивал другому руки», готовя объединение, то не Россия Белоруссии, а Белоруссия — России. Как бы ни обвиняли Россию белорусские националисты, ясно, что она лишь уступала колоссальному напору энергичного белорусского президента, шедшего ради объединения даже на унижения (все мы видели и слышали по телевидению величественно «царское» «Ну, пусть входит» Ельцина по отношению к ждущему в приемной «президенту суверенного государства»). Объединительные усилия А. Лукашенко и исходящий из Белоруссии объединительный импульс — это отнюдь не «сдача» части суверенитета столкнувшихся с громадными трудностями и не выдержавших их, «опустивших руки» государства и народа. Это — нечто совсем иное и в «постсоветском пространстве» уникальное.
Но Белоруссия вообще — страна уникальная, своеобразная политическая жизнь которой имеет лишь отдаленные аналогии в жизни других стран СНГ. Ни в одной стране СНГ не было, например, такой странной «народной электоральной революции», как в Белоруссии в 1994 году, когда не опиравшийся ни на какие силы, кроме «силы народной любви», теперешний белорусский президент смёл всех своих противников, за которыми стояли и большие деньги, и поддержка элиты, и развитые организационные структуры и власть, и даже помощь России.
Ни в одной стране (и не только в СНГ, но, наверное, и во всем мире) нет президента, который, будучи первым главой первого в истории своего народа независимого государства, торжественно разорвал бы национальный флаг — символ независимости и сказал бы о языке собственного народа: «…по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. На свете есть только два великих языка — русский и английский» («Народная газета», 1995, 1 февраля). Откуда же эти своеобразные черты политической жизни Белоруссии? И что же это за «странная» страна, которая может выбрать такого «странного» президента?
Прежде всего попытаемся ответить на вопрос, есть ли вообще белорусская нация? Сами белорусы отвечают на этот вопрос по-разному. Для националистов она, безусловно, есть, и более того — это нация прекрасная, древняя, чисто славянская (в отличие от русских, которые «наполовину угро-финны») и одновременно — западная по своей культуре и т. д. и т.п., но «этнически деградировавшая», подвергшаяся в результате целенаправленной политики российского империализма страшной русификации, а потому нуждающаяся в «лечении». Но как в прошлом веке и в начале нынешнего («западнорусизм», наиболее ярким идеологом которого был М. Каялович), так и сейчас были и есть белорусские интеллигенты, категорически отрицающие существование белорусов как особого народа, видящие в них тех же русских. Вот что можно, например, уже в наше время прочесть на страницах белорусской печати: «…идея национального государства… просто абсурдна, ибо в основу ее заложена несуществующая нация. Существует всего лишь немногочисленная прослойка населения, коей в силу определенных причин… нужен так называемый белорусский язык» («Витебский курьер», 1992, 13 февраля). К такого рода воззрениям, как это ни парадоксально, примыкает и первый в истории белорусский президент А. Лукашенко.
Кто же прав? Существует или нет белорусская нация? Очевидно, ответить на этот вопрос однозначно нельзя, ибо нации — это результат идейных и культурных процессов, не отделимых от общих процессов роста культуры, развития средств сообщения, урбанизации, демократизации общественной и политической жизни, когда разные этнические группы в результате работы идеологов-интеллигентов, ученых и политиков начинают ощущать себя нациями и «лепить», конструировать себя по некоему идеальному образцу, в конечном счете предполагающему наличие единого и независимого государства с определенным языком и национальной символикой, граждане которого — патриоты, гордящиеся своей общностью и государством и противостоящие другим аналогичным государствам и общностям. Объективные этнические различия — это лишь «материал» для подобного конструирования, «обрабатываемый» в ходе этой культурной и идеологической работы. Но, как и любая другая, эта работа по созданию наций может быть начата, продолжена, брошена, доведена до конца, не завершена и т. д. И опять-таки, как любая работа, она может идти разными путями, осуществляться по разным проектам. На основе того же самого материала объективных этнических различий могут строиться разные альтернативные конструкции, может идти борьба за тот или иной план, исход которой не «предопределен», но обусловливается субъективными фактами и конфигурацией исторических обстоятельств. Например, сейчас мы воспринимаем как нечто «естественное», что есть немцы, в состав которых входят такие разные группы, как баварцы и пруссаки, и есть особая нация — австрийцы. Между тем отличий баварцев от пруссаков не меньше, чем баварцев от австрийцев. И то, что граница между нациями пролегла так, что баварцы и пруссаки оказались вместе, общегерманское самосознание «забило» у тех и других особые самосознания, сохранившиеся лишь на регионально-субэтническом уровне, в то время как у австрийцев возникло свое австрийское самосознание, — все это результат относительно недавних процессов и событий. Так «получилось», что баварский сепаратизм не развился, а Гитлер скомпрометировал очень мощную и «естественную» идею, что австрийцы — это просто немцы. История полна нациями, которые по тем или иным причинам «не состоялись», а в современности немало наций, которых при ином ходе истории, ином «выпадении исторических карт», вполне могло бы и не быть.
Наши три восточнославянские нации — русские, украинцы и белорусы — тоже не являются чем-то изначально предопределенным. Мы уже не говорим о том, что вполне возможный иной ход политических событий средневековья привел бы, наверное, к совершенно иной современной национальной карте Восточной Европы (например, продержись еще какое-то время новгородская независимость, быть может, сейчас существовала бы какая-нибудь «новгородская нация» с культурой, очень отличной от «московской»). Но и в прошлом веке только у русских — народа, создавшего империю, — было достаточно развитое чувство «мы — русские». И даже у них были глубочайшие субэтнические различия и этнически периферийные группы, которые теоретически могли стать основой для становления, конструирования особых наций, тенденция к чему была, например, у сибиряков и донских казаков (у последних и сейчас нет полной ясности — то ли они не просто русские, но самые лучшие русские, защитники и строители русского государства, то ли вообще не русские, а особый народ, требующий реабилитации и компенсации). У украинцев же и белорусов, вернее «протоукраинцев» и «протобелорусов», потенциальных украинцев и белорусов, самосознание было крайне неопределенным. Оно представляло собой самосознание «тутейших», которые находились на исторической развилке. В процессе развития и демократизации такое самосознание должно было уступить место национальному, как местный разговорный язык — литературному, но какие это будут самосознание и язык — еще не было «решено».
«Создание» украинцев и белорусов — результат борьбы и труда интеллигентов и политиков, причем были другие интеллигенты и политики, боровшиеся за внедрение общерусского самосознания, за «растворение» их в русской нации (и были те, кто «тянул» их к полякам). И это — не борьба за то, чтобы некая объективно существующая общность «осознала себя» и «возродилась» (любимые термины всех националистов), а именно борьба за создание нации из некоего этнического «марева», из национально неопределенного материала, борьба, исход которой не был «предопределен» и разные исходы которой были бы одинаково «правильными» и «естественными», как одинаково допустимы и «естественны» были варианты: а) растворения австрийцев в общегерманской нации; б) наоборот, выделения как особой нации и баварцев; в) тот вариант, который состоялся на деле, — есть немцы, и есть австрийцы.
В этой борьбе у украинских националистов, у тех, кто решил, что они — украинцы, особый, отличный от русских народ, задача была более легкой, чем у их белорусских аналогов и братьев, в громадной мере идущих за ними и ориентирующихся на них.
Украинское национальное «конструирование» базировалось на мощной позднесредневековой традиции казацкого «протогосударства» гетманов и эпосе борьбы с поляками и татарами, освободительных войн. В Белоруссии такой традиции не было, что объясняется, очевидно, прежде всего географическим и «геополитическим» положением — там не было условий для казачества, а устремлявшиеся в казачество белорусы пополняли ряды украинских казаков. (Возможно, это отсутствие традиции борьбы с иноземцами и систематический отток на юг наиболее активных и бунтарских элементов повлияли на национальный характер. Американский исследователь Н. Вакар даже нашел, что в белорусских народных песнях нет «духа вызова и национального сопротивления, чувства этнического и социального единения, скорее — меланхолический дух поражения». — Vakar N. Belorussia. The Making of a Nation. Cambridge, 1956, p. 219.) Великое Княжество Литовское не может играть в белорусском самосознании роль, которую играет в украинском государство гетманов, потому что прежде всего оно было все-таки литовским. Не имели белорусы и своего аналога Галичины — региона, находившегося вне Российской империи, где сохранилось униатство и где политические условия благоприятствовали тому, что украинский вариант национального конструирования рано одержал верх над общерусским. Поэтому к моменту распада Российской империи белорусская «национальная идея» была неизмеримо слабее украинской (как украинская, например, слабее польской) и не проникла по-настоящему в народную толщу. Видный деятель белорусского движения Я. Лесик писал в 1917 году: «Наши селяне на съездах высказываются в том смысле, что им автономия не нужна… и язык им не нужен. Никто на свете не отрекается от своего языка… а наши селяне отрекаются. Значит, делают они это по неведению и темноте. Зная, что наше крестьянство — забитое и темное, враги Белоруссии пользуются этим и говорят: «Спросите у народа». А разве, спросим мы их, революционеры спрашивали у народа, когда начинали революцию?» (Лесiк Я. Творы. Мiнск, 1994, с. 255).
Эта ситуация народа, не желающего своего языка, и националистов, не желающих его об этом спрашивать, практически повторилась в наше время.
Правда, в марте 1918 года националистам удалось провозгласить Белорусскую Народную Республику, но это государство было чисто «символическим» и прекратило свое существование практически без сопротивления, как только с его территории ушли германские войска. И если создание УССР явилось результатом не только «интернационалистского идеализма» ранних большевиков, но и стремления нейтрализовать реальные украинские сепаратистские силы, то БССР была образована скорее «по аналогии» с УССР.
К моменту создания советской национальной «полугосударственности» белорусы были народом, в котором процессы их национальной консолидации и обособления и противоположные процессы «растворения» в русской нации оказались в «равновесии»; ни один из них не одержал верха: самосознание оставалось неопределенным, народ так и не решил еще для себя, есть он или нет (см. по этому вопросу статьи Д. Карева «Белорусская историография конца XVIII — XX столетия и национальное самосознание белорусов» и А. Киштымова «Менталитет белорусов глазами русского» в сборнике «Беларусiка — Albaruthenica». Мiнск, 1992. Кн. 2) А. Киштымов пишет, в частности: «Многое становится ясным, если принять на вооружение тезис о незавершенности формирования белорусской нации. Конец XIX в. и политические события XX века дали ряд импульсов консолидации белорусов в нацию, но пока что не создали самой нации» (с. 205).
Белорусы могли исчезнуть, войти в состав русской нации, и это было бы не более «неестественным» и «преступным» актом «этноцида», чем, скажем, «растворение» провансальцев во французской нации, сицилийцев и сардинцев — в итальянской, баварцев — в немецкой. (То же самое можно сказать о превращении в белорусов этнической группы «полещуков», у которых есть, хотя и не очень сильное и серьезное, движение за объявление себя особым народом, а своего диалекта, близкого и к белорусскому, и к украинскому, — особым литературным языком.) И при иной конфигурации исторических обстоятельств они действительно могли стать нацией. Но специфические условия БССР в составе СССР не дали развиться ни одному из этих двух одинаково «естественных» процессов, законсервировали и своеобразно модифицировали состояние национальной неопределенности.
В 20-е годы в Белоруссии шел интенсивный процесс «белорусизации», сменившийся затем, в соответствии с общей эволюцией советского государства, русификацией, в конце концов приведшей к тому, что белорусский язык оказался на грани исчезновения, став языком немногих деревенских «медвежьих углов» и части белорусской гуманитарной и творческой интеллигенции, «профессиональных белорусов». Вот как описывает белорусский автор сложившуюся тогда в республике языковую ситуацию: «К 60-м годам в Белоруссии не осталось белорусских школ. Для втирания очков проверяющим комиссиям оставили Гудевичскую десятилетку в Мостовском районе и еще пару школ на Гродненщине. Но, кроме факультета белорусской филологии, ни в один вуз выпускник этих школ поступить не мог» («Знамя юности», 1994, 31 августа). В 1989 году использовали белорусский в повседневной жизни только 10,5 процента белорусов и только 1,5 процента белорусов-горожан.
И хотя в русификации был, разумеется, элемент сознательной политики, прежде всего она была естественным процессом, ибо при относительно неразвитом белорусском и его близости к русскому перейти на русский было значительно проще, чем развивать белорусскую терминологию и создавать белорусскоязычную среду современного производства и городской жизни. Называть ее насильственной можно не с большими основаниями, чем называть искусственным и насильственным процессом белорусизацию 20-х годов, и сопротивление ей было не больше, чем в свое время сопротивление белорусизации. Характерно, что аналогичный процесс русификации шел и там, где никакого принуждения и никакой сознательной политики в этом направлении быть не могло, — среди общин белорусских эмигрантов из Западной, находившейся под управлением Польши части Белоруссии. О советской власти, очевидно, можно сказать даже, что она как раз не позволяла завершиться «естественному» процессу растворения белорусов в русском народе.
«Двусмысленность», противоречивость советской идеологии и самосознания Советского государства (Союз равноправных республик, который одновременно есть Великая Россия) не давали возможности завершиться ни становлению белорусской нации, ни растворению белорусов. Сам факт существования БССР, достижения белорусами статуса титульной нации союзной республики, приобрел своего рода «догматическое» значение. В результате воздействие советских условий было очень сложным. Белорусский крестьянин начала века обладал своеобразной народной культурой и говорил на языке, значительно отличавшемся от русского литературного языка, но не считал себя представителем «белорусского народа» и не знал, что его язык — равноценный с русским и польским «белорусский язык». Белорусский советский горожанин практически ничем не отличался по культуре от русского, говорил (и продолжает говорить сейчас) по-русски и белорусского не знает или знает плохо. При этом он четко знал, что является белорусом, гражданином БССР — равноправной республики и даже члена ООН и что его родной язык — белорусский. Этническая неопределенность, двусмысленность и переходность самосознания сохранились, хотя и приобрели совсем иные формы.
Очевидно, эта этническая неопределенность — один из источников специфически белорусской «советскости». У любого народа СССР, включая русский, досоветское, докоммунистическое прошлое было своего рода «вызовом» советской идеологии и системе, «девальвировало» их, заставляло видеть в них одну из возможных форм существования народа. Раз досоветская государственность и докоммунистическая национальная культура имелись в прошлом, значит, они «представимы» и в будущем. У белорусов же их, можно сказать, не было (богатая культура их предков эпохи Великого княжества — все же культура донациональная, и хотя язык, на котором говорили и писали в то время, был прямым «предком» современного литературного белорусского, назывался он все-таки русским). Протеста против русского доминирования, ощущения русских как господствующего чужого народа также практически не было. Неопределенность белорусского самосознания, очевидно, прекрасно соответствовала неопределенности статуса белорусов и БССР.
К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство. В белорусской истории не было ярких эпизодов общенародной борьбы с иноплеменниками, вокруг которых «кристаллизуются» национальное сознание и национальная мифология. Но при советской власти такой эпизод возник. Им явилось в годы второй мировой войны партизанское движение в тылу немецко-фашистских войск. Самый яркий эпизод сопротивления захватчикам в белорусской истории оказался, таким образом, неразрывно связан с Советским государством и коммунистической идеологией. Между тем белорусский национализм, пытавшийся поднять голову при немцах и в какой-то мере находившийся под их покровительством (как и Белорусская республика 1918 года, которая, как уже говорилось, тоже существовала в условиях немецкой оккупации), стал связан в народном сознании с фашизмом, пособничеством оккупантам и т.д.
«Самая советская» из всех Советских республик, Белоруссия оказалась абсолютно не готовой к событиям перестройки и постперестройки. Жизненный уровень здесь был выше российского. Диссиденты в Белоруссии практически отсутствовали (был только один настоящий, сидевший диссидент). Воспитанная на традициях партизанского поколения партийная верхушка была, очевидно, менее коррумпирована и более по-советски идейна, чем в России и вообще где-либо в СССР, и безоговорочно предана Москве. (А. Адамович вспоминал, что какой-то представитель белорусских номенклатурных верхов рассказывал ему с чувством гордости за белорусов, как украинцы добивались у Центра больше денег на борьбу с последствиями чернобыльской катастрофы, а им отвечали, что белорусы пострадали больше, а не просят (См. «Независимая газета», 1991, 13 апреля). Если принять во внимание, что белорусам свойственно «инстинктивное недоверие к любой перемене», как писал польский революционер Ю. Мархлевский, то легко понять, каким шоком должна была стать для этого народа вереница событий, помимо воли приведшая их в конце концов к ситуации независимого национального государства, абсолютно не соответствующей национальному самосознанию.
История как бы издевается над народами. Иерархия правовых статусов народов СССР была относительно случайна и совершенно не соответствовала их национальным самосознаниям. Но и эта иерархия статусов, и межреспубликанские границы оказались решающими факторами в судьбах народов при распаде СССР. Страстно стремящиеся к независимости чеченцы не могут ее добиться, ибо их республика — автономная, и мировое сообщество никогда не признает чеченской независимости (если только ее не признает сама Россия). И, наоборот, совершенно не стремившиеся к независимости белорусы оказались буквально «вытолкнуты» в нее при распаде СССР. То, за что другие проливают кровь и не могут этого добиться, досталось им не только без крови, но и просто помимо их воли. Но это отнюдь не «подарок» истории, а если и «подарок», то такой, за который приходится дорого расплачиваться, ибо если чеченская кровавая борьба — это, несомненно, трагедия, то свалившаяся на голову белорусам независимость — это тоже своего рода хотя и не кровавая, но трагедия.
Ядро антикоммунистических сип Белоруссии, создавших основную организацию национал-демократической оппозиции, Белорусский народный фронт «Возрождение» (БНФ), составляла здесь, как и в других республиках, гуманитарная и творческая интеллигенция, прежде всего та ее часть, которая наиболее тесно связана с национальной культурой и языком и с болью следила за их постепенным исчезновением. Национальный и антикоммунистический протесты в БССР, как и во всех республиках бывшего СССР, кроме России, совпадали, и естественной моделью для белорусских «антисоветчиков» стала модель национального демократического государства — по типу европейских. Внутри же СССР такую естественную модель создавали сплоченные, организованные, обладающие европейского типа культурой прибалтийские народы. Но соединение демократического, антикоммунистического и национального протестов, которое у других народов усиливало демократические движения, у белорусов его, напротив, ослабляло.
Слабость национального самосознания ни в коей мере нельзя рассматривать как какую-то «неполноценность», а его сила вовсе не является особым достоинст¬вом. Белорусы с их неопределенным самосознанием ничуть не «хуже» русских или поляков. Но идеологическое и культурное развитие Европы XIX—XX веков выработало некий образ «настоящей нации», которому придается оценочное значение (нечто вроде образа «настоящего мужчины») и которому белорусы явно не соответствуют. И для национально ориентированной интеллигенции, видящей вокруг себя такие народы, как литовцы, поляки, русские, белорусская неопределенность представляется именно неполноценностью, чем-то едва ли не постыдным, тем, что нужно как можно скорее преодолеть. Для 3. Позняка, лидера БНФ, белорусская «нация глубоко и тяжело больна» («Народная газета», 1994, 15—17 января). Другой деятель националистического движения, А. Астапенко, говорит: «Сегодня, наверное, ни для кого не секрет, что белорусскую нацию вряд ли можно назвать полноценной» («Советская Белоруссия», 25 января 1992 года).
Национализм по сути своей придает особую ценность национальной специфике, но при этом он как бы подгоняет реальную специфику (а неопределенность самосознания белорусов — это тоже специфика) под некий эталон. От белорусов требуется как можно скорее стать народом по типу прибалтийских — начать говорить исключительно на своем языке, проявлять особую гордость своей культурой, стремиться к независимости и т. д. Ясно, что эти непомерные для белорусов требования изолируют национал-демократов от народных масс. БНФ оказывается как бы в порочном круге: чем более он компенсирует свою слабость агрессивной русофобией — празднованием годовщин разных битв, в которых войска Великого Княжества Литовского, представляемые чуть ли не как белорусская народная армия, били московские войска, изображением сотрудничавших с гитлеровцами националистов почти как героев национально-освободительного движения и даже претензиями на «отторгнутые Россией исконно белорусские смоленские земли» — тем больше он отпугивает людей.
При этом БНФ и сам в какой-то мере боится своего полностью не соответствующего идеальной модели народа, рассчитывая на победу не столько его силами, сколько силами других народов. Народнофронтовский деятель В. Ивашкевич заявлял, например: «Я думаю, что, ухватившись, так сказать, за хвост прибалтов и украинцев, мы успеем на этот раз на свой поезд, на который мы опоздали вскочить в 1918 г.» («Советская Белоруссия», 1990, 1 августа). Идея же
референдума о независимости БНФ просто отвергалась. Вот как писал один из его идеологов Л. Лыч: «Уверен, что такие референдумы правомерно проводить только с высоко национально сознательными людьми… Нужно сначала научить жить согласно национальным нормам, а потом выяснять отношения к ним» («Знамя юности», 1991, 14 сентября). Такой антидемократизм на практике, сочетающийся с демократизмом в теории, отражается и на внутренней жизни БНФ, где возникает нечто вроде «культа личности» его неулыбчивого жесткого и аскетичного лидера 3. Позняка, которого выдающийся белорусский писатель В. Быков называет ни больше ни меньше как «современным апостолом Беларуси» («Литаратура i мацтацтва», 1990, 12 октября). Если в Прибалтике народные фронты — это действительно общенародные движения, если на Украине Рух наряду с интеллигентской социальной базой в Киеве располагает и мощной региональной базой в Западной Украине, то БНФ имеет фактически базу только среди массовой интеллигенции Минска и других крупных городов. На западе Белоруссии, в бывших польских землях и среди католиков, его поддержка несколько выше среднебелорусской. Но аналогом Галичины Брестская и Гродненская области все же не стали, и некоторая естественная «антирусскость» белорусов-католиков несравнима с интенсивным национализмом галицийских униатов. БНФ оказывается как бы «сектой», тесно связанной с относительно узкой интеллигентской «белорусскоязычной субкультурой». На выборах 1990 года депутатов — членов БНФ было избрано в Верховный Совет только 26 человек (7,5 процента), из них 13 человек — из Минска (всего же депутатов демократической оппозиции — 43 человека). И хотя весной 1991 года в Белоруссии возникло мощное забастовочное движение в связи с повышением цен, «оседлать его» БНФ не удалось. На митинге 4 апреля 1991 года один из выступавших рабочих требовал телевизионной трансляции, дабы все видели, «что это не БНФ, а рабочие пришли сюда» («Знамя юности», 1991, 16 апреля) — заботы рабочих людей и заботы национальной интеллигенции явно не стыкуются.
И если сравнить приведенные выше данные о Верховном Совете с данными голосования за Позняка в первом туре президентских выборов 1994 года — всего по республике 12,8 процента голосов, в Минске и Гродненской области — по 21 проценту, — что можно прийти к заключению, что, несмотря на бурные события 1990—1994 годов, принципиально расширить свою социальную базу БНФ не удалось.
Белорусская партийная элита, более искренне советская, чем элиты других республик, не увлеченная общей национальной волной и не страшащаяся слабого национально-демократического движения, не породила никаких аналогов Кравчуку, Рюйтелю, Горбунову и Бразаускасу. На рубеже 80—90-х годов Беларусь становится «коммунистической Вандеей», как ее назвал А. Адамович, одним из центров оппозиции М. Горбачеву. На XXXI съезде республиканской компартии в ноябре 1990 года первый секретарь ее ЦК Е. Соколов говорил: «Сейчас решается… быть или не быть Советской власти, социалистическому строю, партии Ленина. И если в самое ближайшее время не повернуть обстановку в позитивное русло… кризис может перерасти в катастрофу» («Советская Белоруссия», 1990, 28 февраля). В апреле 1991 года пленум ЦК КПБ принял заявление о «текущем политическом моменте», где отмечалось: «Под прикрытием общих рассуждений о новом облике социализма идет целенаправленная капитализация советского общества… Перестройка, на которую возлагали большие надежды, зашла в тупик…» («Знамя юности», 1991, 16 апреля). И за пять месяцев до августовских событий, на пленуме ЦК КПСС 24 марта 1991 года, сменивший Е. Соколова А. Малафеев уже четко и недвусмысленно провозглашает программу ГКЧП: «Спасти страну от развала может только введение чрезвычайного положения на территории СССР» («Знамя юности», 1991, 2 мая).
И если к 1991 году идея «суверенизации» все же проникает в белорусскую верхушку, то вырастает она не из национального чувства и не под влиянием оппозиции, а скорее как «запасной вариант» к идее ГКЧП, как средство оградить себя от либеральных московских влияний. Это ярко видно, например, из выступления на XXXI съезде КПБ первого секретаря ее Витебского обкома В. Григорьева: «Горбачеву надо… на деле наконец-то пойти на решительные меры по стабилизации положения в стране. Без этого она может окончательно развалиться, и мы все окажемся под ее обломками. А может быть, не надо нам, белорусам, ждать этого, а разработать самим, исходя из вашего суверенитета, оперативный план формирования общественно-политического благополучия в республике» («Советская Белоруссия», 1990, 1 декабря). Кроме того, верхушка вынуждена объяснять народу ухудшение экономического положения политикой Центра, и, при всей своей коммунистической ортодоксальности, ее не может не привлекать перспектива усиления ее власти посредством переподчинения себе союзных предприятий на белорусской территории. Эти мотивы четко проявились в высказываниях тогдашнего председателя Совета Министров Белоруссии В. Кебича: «…кономику республики не удалось оградить от всесоюзной разрухи… Центр пытался навязать республикам железную волю, вел прямое наступление на их суверенные права и фактически дестабилизировал связи, начинавшие формироваться на горизонтальном уровне» («Знамя юности», 1991, 30 июля). Но во всем этом практически не присутствует «национальной идеи», того ощущения исторической миссии и стремления войти в историю, которое было столь очевидно, например, у Л. Кравчука.
ГКЧП белорусские верхи, естественно, восприняли с облегчением, как долгожданное возвращение к нормальной жизни. Сохранился забавный документ — запись беседы Председателя Президиума Верховного Совета БССР Н. Дементея, отличавшегося поразительно неграмотной и вызывавшей смех речью, с депутатами из БНФ 19 августа: «Это родилось заявление вместе с Горбачевым, по состоянию его здоровья, еще раз повторяю… У Горбачева истекли, скажем, все психологичес¬кие моменты, что ему дальше делать?.. Все делается по Конституции, и прошу никаких домыслов не строить. Взвешенно ко всему отнеситесь — все в соответст¬вии» («Знамя юности», 1994, 24 августа). И чувства большинства белорусского народа в августе 1991 года были, безусловно, ближе к чувствам Дементея или Малафеева, чем к чувствам белорусских демократов. Писатель С. Букчин замечал по этому поводу: «Сколько нас собралось в те дни на площади в Минске? Две-три тысячи… Где наша совесть?» («Знамя юности», 1991, 23 августа).
Но ГКЧП потерпел крах, и белорусская верхушка срочно перешла на «запасной путь», путь суверенизации. 24 августа Верховный Совет принимает Закон о придании статуса Конституционного закона Декларации Верховного Совета БССР о государственном суверенитете (сама декларация была принята после принятия аналогичной декларации Россией), приостанавливает деятельность КПБ, срочно вводит еще недавно считавшуюся чуть ли не фашистской националь¬ную символику — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Дементея сменяет его заместитель, профессор физики С. Шушкевич — выдвиженец демократической волны, игравший роль «буфера» между номенклатурной верхушкой и демократами (демократ, но «ответственный»). В декабре он выполнил роль одного из трех «беловежских зубров», окончательно похоронивших союзное государство.
Элементы «маскарада» или «театра абсурда» были в 1991 году присущи политической жизни всего развалившегося СССР (партийные руководители, в срочном порядке становившиеся антикоммунистами и заседавшие под двуглавыми орлами и иными подобными символами, и т. д.). Но спектакль, сопровождавший появление на свет независимой демократической Белоруссии, вероятно, был самым «абсурдистским». Национальный флаг (теоретически — символ свободы и победы национально-освободительного движения) был поднят не только партаппаратчиками — это оказалось общим явлением, но еще и украдкой, ночью, чтобы не будоражить народ. Независимой Белоруссии не хотели ни большинство народа, ни номенклатурная элита. Но сила национальных движений в других республиках, отказ от Союза ССР правящей верхушки самой России и чисто правовые обстоятельства, по которым распад СССР было возможно (или, во всяком случае, наиболее просто) оформить как расторжение союзного договора теоретически равноправными и теоретически добровольно входившими в него республиками, буквально вытолкнули упирающуюся Белоруссию в независимость. В ходе одного интервью Шушкевича белорусский журналист заметил: «Иной раз создается впечатление, что суверенность свалилась на нас неожиданно и до сих пор является непривычно тяжелой ношей». На что тот заявил: «Я с вами категорически не согласен». («Советская Белоруссия», 1992, 25 июля). В этом диалоге интересен не столько ответ Шушкевича, очевидно, просто неискренний, сколько высказывание журналиста, безусловно, верное.
Абсолютно деморализованная белорусская верхушка, господствовавшая в Верховном Совете парт- и хозноменклатура оказались вынуждены проводить программу белорусизации и совершать всякие «национальные» и «независимые» действия, противоречащие их привычкам и убеждениям. Естественно, все это делалось вяло, без энтузиазма. Люди двигались, как в дурном сне, со смутной надеждой, что это именно сон, что в реальности этого быть не может и самое главное — дотянуть до пробуждения. Создавалось впечатление: ни элита, ни народ не могут до конца поверить, что независимая Белоруссия действительно существует и что это — «всерьез и надолго». Трагикомизм белорусской ситуации хорошо проявился в таком, например, эпизоде: в то время, как все остальные новые государства мечтали заполучить к себе с визитом американского президента, в Белоруссии верхушка откровенно не желала приезда Б. Клинтона. Шушкевич (когда его отправили в отставку, и он стал откровенен) следующим образом говорил об этом кратковременном визите: «Большинству в Верховном Совете очень не хотелось приезда в Минск президента США, не хотелось признания Клинтоном Беларуси как самостоятельного европейского государства. И, может быть, одна из самых главных вех в моей жизни — это то, что визит Клинтона, несмотря на все препоны, состоялся» («Знамя юности», 1994, 1 февраля).
Постепенно, однако, белорусские верхи начинали немного приходить в себя. Переломный момент, очевидно, наступил тогда, когда власти не дали провести инициированный БНФ референдум о досрочном роспуске Верховного Совета (умеренный и склонный к компромиссам Шушкевич встал тогда на сторону большинства депутатов, что привело его к разрыву с бээнэфовцами и Позняком). Признанным формальным и неформальным лидером номенклатуры становится премьер Кебич. В 1990—1991 годах он был критиком Центра и сторонником максимальной хозяйственной самостоятельности Белоруссии. Но постепенно его позиция меняется. Основными идеями Кебича становятся, с одной стороны, постепенный, «щадящий» переход к рынку, с другой, что было в прямом противоречии с этим, — интеграция с Россией, где реформы идут быстрее и отнюдь не «щадяще». В одном из своих интервью пресс-секретарь Кебича В. Заметалин пространно говорил о том, что в Белоруссии меньше коррупции и безнравственности, чем в России (и это похоже на правду), что в республике «жива в людях та самая стократно преданная анафеме социалистическая нравственность. Не разрушил основ осознанно медленный темп реформ, проводимых правительством во главе с Вячеславом Кебичем». После этого журналист задал ему вполне резонный вопрос: «А как же тогда Белоруссия хочет идти в связке с дикой Россией?» Самое поразительное, что ответа на этот вопрос просто не было дано (см. «Советская Белоруссия», 1994, 9 апреля). Как прежде Кебич объяснял все экономические беды республики диктатом Москвы, так теперь, напротив, — разрывом связей с ней, бесконечно повторяя цифры, свидетельствующие об экономической зависимости Белоруссии от России.
На идее максимально тесного сближения с Россией вообще сходятся очень противоречивые, даже противоположные интересы и настроения большинства белорусов. Для «социалистически настроенной» массы сближение с Россией означает что-то вроде возвращения «добрых старых времен», причем то, что Россия все более и куда быстрее, чем Белоруссия, «капитализируется», или просто не осознается до конца, или воспринимается как нечто временное, как то, что противоречит самой сути России и поэтому неизбежно скоро кончится. У обуржуазивающейся же белорусской номенклатуры мотивы сближения с Россией, очевидно, иные. Если раньше интересы номенклатуры диктовали скорее дистанци¬рование от Москвы, что означало переход под контроль белорусских верхов предприятий союзного подчинения, то теперь, когда в России полным ходом идет приватизация, ее механизм, как писал один белорусский журналист, «является весьма привлекательным для белорусской номенклатуры», ибо открывает возможности обогащения, которых нет в Белоруссии с ее «социалистической менталь-ностью» («Народная газета», 1994, 10 марта). Но главное в этой тяге к России, конечно, другое. Оно состоит в ощущении «неестественности» положения Белоруссии как независимого государства, несоответствии уровня национального самосоз¬нания и правового статуса.
Полной ликвидации белорусской независимости, очевидно, желало бы лишь меньшинство (впрочем, такое меньшинство есть — в Белоруссии действует ЛДПР и имеется ряд примыкающих к ней и находящихся в союзе с ней организаций типа «Славянского Собора Белая Русь», которые стремятся к созданию единого восточнославянского государства), но к какому-то состоянию «при России», аналогичному положению БССР в СССР, стремится несомненное большинство, и Кебич проводил политику, отражавшую эту волю большинства.
Пользуясь поддержкой большинства Верховного Совета, он постепенно захватывал все больше власти. Шушкевич (которому основная масса народа не может простить его роли в достижении независимости, а БНФ — в провале плана референдума) и другие явные сторонники самостоятельности шаг за шагом отстранялись, и если в начале большинство парламента упорно не хотело введения президентского поста (он воспринимался как еще один атрибут независимости, и, кроме того, сам термин звучал для многих депутатов слишком по-западному и буржуазно), то теперь, когда выявился «единый номенклатурный кандидат», был принят и соответствующий конституционный закон. Кебич шел на выборы в ситуации, когда все, казалось, было «схвачено», он пользовался поддержкой как всей номенклатурной элиты, так и России (в Белоруссии он пользуется репутацией друга Черномырдина), которая недвусмысленно показывала, что именно он — ее кандидат. В белорусской прессе был напечатан прекрасный документ — расшифровка фонограммы происшедшей незадолго до выборов беседы Кебича с аграрниками в Полоцком горисполкоме. Кебич говорил: «Нам Россия, Черномырдин лично мне под выборы дал 2 миллиона тонн нефти по 20 долларов. И вот эту нефть мы хотели дать только селу, это вы понимаете?… Мы покупаем сегодня по 85 долларов, а это 20!.. Поэтому на уборку урожая эта нефть пойдет по 20 долларов за тонну… Ну и по секрету скажу, что был мне звонок вчера первого зама (Черномырдин на отдыхе)… Я, наверное, на той неделе еще раз полечу в Россию… Мне прямо сказали: «Чем помочь, Слава, чем помочь?» В России очень большая тревога за нынешнюю обстановку здесь… и особенно в России тревожатся за Лукашенко… Это — человек на последнем сдвиге» («Народная газета», 1994, 17 июня). Документ этот поразительно красноречив и ярко раскрывает сознание Кебича и белорусской номенклатуры, сознание людей, для которых Москва — все равно Центр, где расположено начальство: сам же Кебич никак не «премьер-министр суверенного государства», а что-то вроде старого секретаря обкома со связями в «верхах», выбивающего лимиты для своей области, хвастающего этими связями, но хвастающего так, что и в хвастовстве чувствуется дистанция. И одновременно здесь присутствуют и «элементы нового» — доллары и выборы.
Но хотя Кебич вроде бы подходил всем, имел в своих руках все рычаги власти и воздействия на избирателей, еще за несколько месяцев до выборов никому в голову не приходило, что он может потерпеть сокрушительное поражение. Упомянутый им «человек на последнем сдвиге» разбил его наголову. Что же произошло в Белоруссии?
Александр Лукашенко — относительно молодой (сейчас ему 41 год), выходец из деревни, ставший директором совхоза, а в 1990 году — депутатом, вначале даже умеренно демократической ориентации. Его сын, студент, так говорит о нем: «Он вырос без отца, в деревне, ходил с матерью коров доить. И поднялся, в таком молодом возрасте, в 40 лет, только благодаря своему уму! Ведь все были против него, никто его не проталкивал» («Имя», 1995, № 6). Сам Лукашенко, рассказывая о своем тяжелом сиротском детстве, дает себе, очевидно, правильную характеристику, не ведая, что это почти классическое определение авторитарной личности: «Выросший без отца, я приобрел такие черты характера: с одной стороны — жесткость, с другой — мягкость до слез» («Советская Белоруссия», 1994, 1 сентября). Во всяком случае, один раз Лукашенко, похоже, действительно публично плакал — слушая в парламенте доклад о коррупции в его аппарате.
Став депутатом, Лукашенко привлекает к себе внимание, создавая образ «народной честности». Еще в 1990 году в газетах его характеризовали следующим образом: «Прямой и честный, А. Лукашенко не умеет прятаться за красивой фразой, лукавить. Он настолько верен правде своих городецких мужиков, что и конфликтные узлы разрубает, как они учили…» («Советская Белоруссия», 1990, 14 августа). Но славу Лукашенко принесли два обстоятельства. Во-первых, это был единственный депутат, проголосовавший против ратификации Беловежских согла¬шений, что действительно требовало большой честности и мужества. Во-вторых, став председателем парламентской комиссии по борьбе с коррупцией, он начал выступать с шумными обвинениями в адрес всей верхушки, включая Шушкевича и Кебича. То, что белорусская верхушка воровала, — это более чем естественно, но все обвинения Лукашенко отличались голословностью и ни одного процесса в связи с ними возбуждено не было. Этот факт, однако, его как-то не очень волновал. Так Лукашенко становится народным кумиром.
«Среднебелорусское» сознание в 1994 году — это сознание людей измучен¬ных, озлобленных и никому не доверяющих. Они не так плохо жили при советской власти и вполне принимали ее основные идеологические ценности, хотя, конечно, какой-то социальный протест, какая-то зависть к верхушке сохранялись всегда. Но в ходе перестройки, и особенно после 1991 года, простые люди оказались в каком-то непонятном для них водовороте событий, когда им навязывают (и даже не всегда понятно, кто именно) новые, непривычные формы жизни, причем живут они все хуже, а элита — все лучше. Ясно, что в такой ситуации социальный протест должен был резко усилиться. Однако никакой идеологии, способной аккумулировать и куда-то направить этот протест, не существовало. Ведь и элита не основывалась уже ни на какой идеологии, против которой можно было бы бороться. Вчера она была коммунистической, сейчас стала — не поймешь какая. Для массового сознания ясно только, что нечестная. В такой атмосфере естественно стремление ухватиться за какие-то простые, базовые ценности — честность и порядок.
Белорусские опросы общественного мнения показывают массовое сознание более «социалистическим», чем российское, но усвоившим какие-то представления о ценности рынка. Так, опрос в ноябре — декабре 1993 года засвидетельствовал, что за плановую экономику высказалось 43 процента, за рыночную — 54, за капитализм — 31,6, за социализм — 40,9 процента («Независимая газета», 1994, 30 марта). Очень схожую картину запечатлел и опрос декабря 1994 года: за социализм — 46 процентов, за капитализм — 30,3, за рыночную экономику — 51, за плановую — 46,3 процента («Народная газета», 1995, 4 марта). Возникает картина доминирования чуть ли не социал-демократических взглядов: большинство скорее за социализм, но одновременно — за рынок. И никаких особых противоречий между такими взглядами и курсом «щадящего», «осознанно медленного» реформирования правительства Кебича нет. Но вот данные другого опроса, когда респонденты должны были выбрать один или больше ответов на вопрос о путях выхода экономики из кризиса: за то, чтобы «навести порядок и дисциплину», высказалось 56 процентов, «усилить борьбу с коррупцией и хищениями» — 41 процент и только затем, с большим отрывом, следуют получившие по 25 процентов сторонники «ускорить процесс приватизации» и «создать условия для предпринимательства» («Советская Белоруссия», 1992, 25 марта). Эта умеренность и неопределенность социально-экономических позиций при сильном упоре на мораль и порядок, переводе проблем из плоскости собственно политической в плоскость моральную и при этом — отчетливая антиэлитарность имеют несколько фашистский оттенок (мы употребляем здесь этот термин не как ругательство и даже не как оценочный термин, а как констатацию реального положения дел). Не хватает национализма — к честности и порядку очень подходила бы «преданность Родине и нации», но белорусское самосознание слишком неопределенное, слишком «советское» (в Белоруссии, однако, активно ведутся поиски какого-то «общевосточнославянского» варианта национализма, который близок и Лукашенко). Но при такой констелляции ценностей просто необходим вождь — честный человек из народа, не боящийся говорить правду, смелый, твердый, решительный и т. д. И Лукашенко попал в фокус этих народных ожиданий. Он действительно народен, интеллектуально и морально — «средний белорус». Его негодование не наиграно. И когда он говорит, например: «Нынешний пакет законов о приватизации Верховный Совет принял «под себя», поскольку депутаты знали, что они первыми прибегут к кормушке… У этой кормушки все хрюкают одинаково — и красные, и белые» («Советская Белоруссия», 1994, 22 апреля), это и есть та самая «простая правда», которую хочет услышать белорусский народ. Вот еще один характерный пример. Белорусский журналист рассказывает о сцене, которую он видел в одном из минских дворов и которая великолепно иллюстрирует «феномен Лукашенко»; два алкоголика разливают пол-литра и чокаются: «За Сашку! Пусть покажет им всем кузькину мать!» («Советская Белоруссия», 1994, 27 октября).
Лукашенко становится чем-то вроде вождя народной «электоральной революции», и именно потому, что его социально-политические идеи — достаточно общи и неопределенны и ничего, кроме морализма, имиджа честности и решительности он белорусской верхушке и ее лидеру не противопоставляет, и те ничего не могут ему противопоставить. Против Лукашенко — подавляющее большинство интеллигенции и номенклатуры. Против него — и российское руководство, для которого куда ближе нормальная, предсказуемая фигура Кебича. Более того, в борьбе с ним сторонники Кебича применяли и жульнические приемы. Например, вдруг появляется статья — якобы перевод какой-то статьи голландского журналиста из некоей голландской газеты, — где рассказывается, как успешно развивается Белоруссия и как ей повезло с хорошим премьер-министром, а затем, вроде бы между прочим, говорится, что есть в Белоруссии еще полусумасшедший Лукашенко и полуеврей Шушкевич. Потом выясняется, что никакого такого журналиста в Голландии нет и газеты такой тоже не существует, а Шушкевич дает интервью, объясняя, что он — чистокровный белорус. (Впрочем, Лукашенко тоже не отличался в ходе избиратель¬ной кампании абсолютной честностью, очевидно, решив, что так как по сути своей он — честен, предан народу и бескорыстен, то имеет право на «маленькие хитрости». Так, он заявил, что во время поездки в баню на него было совершено покушение: для полноты образа борца с мафией покушение просто необходимо, но на самом деле его явно не было. Потом он всячески стремился, чтобы об этом эпизоде забыли, но «маленькие хитрости» не оставил.) Тем не менее не опирающийся ни на какие организованные силы Лукашенко буквально сметает все на своем пути. В первом туре Лукашенко получает 44,82 процента, Кебич — 17,33, Позняк — 12,82, Шушкевич — 9,91 процента. Во втором туре у Лукашенко 80 процентов, у Кебича — 14.
При идеологически и партийно «не структурированном» электорате, в условиях измученности и озлобленности людей, не понимающих, что с ними происходит, почему им все хуже жить и куда их влекут события, такие популистские антиэлитарные «революции» и выдвижение таких «честных» и неэлитарных вождей, очевидно, естественное явление постсоветского мира. В России аналогом Лукашенко был, несомненно, «ранний Ельцин», первоначальная популярность которого в народе связывалась не с идеей рыночных реформ, а с тем, что он не побоялся сказать Горбачеву и Политбюро «правду-матку» (причем никто толком не мог сказать, в чем конкретно эта правда-матка заключалась) и пострадал за это, что он честен, решителен, глубоко народен и готов к борьбе с привилегиями партаппарата. Вспомним трогательных старушек того времени с его портретами, старушек, которые сейчас, наверное, просят милостыню или уже умерли. Даже приемы Лукашенко и Ельцина схожи, и лукашенковское псевдопокушение по пути в баню очень похоже на разные аналогичные истории с Ельциным. Есть аналогии, хотя и меньшие, и между «феноменом» Лукашенко и «феноменом» В. Жириновского, равно как между подъемом Лукашенко и нынешним быстрым ростом популярности генерала А. Лебедя. Все это, конечно, очень разные люди, но механизм подъема во всех случаях один — человек привлекает внимание народа честностью, решительностью, антиэлитарностью, причем конкретная программа во всех случаях имеет второстепенное значение. Но в России все же растерянность и фрустрированность массового сознания оказались меньшими, чем в Белоруссии, ибо хотя русские тоже страдают от обнищания и быстрых перемен, к которым трудно адаптироваться, но для них хотя бы очевидно, что Россия как государство была, есть и будет. Да и перемены-то эти, как бы об этом сейчас многие ни жалели, произведены ими самими. Для белорусов же трудно свыкнуться с самим фактом существования независимой Белоруссии, а все революционные трансформации, последних лет, включая и приобретение самой этой независимости, навязаны им, пришли к ним извне. Вот почему белорусская популистская революция — неизмеримо более крупная как по масштабам (80 процентов против 14 в России непредставимо), так и по «чистоте». Ельцин быстро нащупал идеологию, реально отличную от идеологии его соперников, и располагал своей, хотя и аморфной, и быстро распавшейся, организацией («ДемРоссия»); Жириновский с самого начала имел отличавшие его от всех элементы идеологии и тоже создал организацию; Лебедь опирается на Конгресс русских общин (КРО) и А. П. Глазьева. У Лукашенко же в этом смысле вообще не было ничего.
Элемент «театра абсурда», который все время присутствовал в белорусской политике, с приходом к власти Лукашенко многократно усилился. Абсурд тихий, скромный, старавшийся не привлекать к себе внимания, сменился абсурдом шумным и энергичным.
Лукашенко вызывает в Белоруссии очень у многих ненависть. Но он, несомненно, человек во многом несчастный, с которым, как и со всем белорусским народом, «играет история». Можно только предполагать, что должно происходить с психикой человека, так «иррационально», нелепо победившего всех и вознесшегося на вершину «политического Олимпа». И можно только предполагать, насколько этот человек одинок.
Вокруг Лукашенко в период его стремительного восхождения находилась лишь небольшая, случайная и разношерстная группка молодых интеллигентов, которые, очевидно, надеялись, что будут направлять этого «наивного, но честного и стремящегося к народному благу» человека. Но они обманулись, как обманывались в истории их аналоги множество раз (Рем — в Гитлере, Бухарин и Зиновьев — в Сталине, Бурбулис и Старовойтова — в Ельцине). Харизматикам не нужны старые товарищи, наивно полагающие, что могут ими манипулировать, им нужны исполнители. Исполнителей же могла поставить лишь все та же «кебичевская» номенклатура, и в окружение Лукашенко вошли люди, только недавно его поносившие, но умеющие «служить», и люди, практически несомненно, весьма коррумпированные, но именно поэтому зависимые. Однако если Кебич для этих людей был «свой», то Лукашенко — невесть откуда взявшийся выскочка, и, возможно, прав белорусский журналист Ю. Дракохруст, который пишет: «…вся элита белорусского общества его ненавидит, в том числе и те, кто ему служит. Кончится тем, что кто-то из своих… вышвырнет его ротой десантников» («Белорусская деловая газета», 1995, № 40).
Но если о чувствах людей, непосредственно служащих президенту, можно только предполагать, то те группы элиты, которые от него непосредственно не зависят, ненавидят его открыто и безоговорочно. При этом ненависть интеллигенции, особенно национально-демократической ориентации, которую он унижает и как «плебей», и как человек, оскорбляющий ее национальное достоинство и «топчущий» национальное сознание, вообще не имеет границ. Демократическая пресса организовала травлю Лукашенко, кульминацией которой была публикация в газете «Свобода» шуточной поэмы «Лука Мудищев — президент», кончающейся словами: «Над Беларусью ветер свищет, пожухли бульба и овес, наш президент Лука Мудищев садится в черный членовоз». Может быть, самое обидное для него то, что к этой травле подключается и российская пресса — и из «классового» интеллигентского снобизма, и из ненависти к лукашенковскому «красно-коричневому» духу и его подыгрыванию русскому национализму.
Никаких ясных идей в социально-экономической сфере у Лукашенко не было и нет, его действия в этой сфере противоречивы и хаотичны, в целом он плывет по течению, влекущему все туда же — к «номенклатурному» капитализму, а народ — к дальнейшему падению жизненного уровня. Борьба с коррупцией также оказывается пустым звуком — никаких рычагов для реальной борьбы такого рода у Лукашенко нет, и разрыв между антикоррупционной риторикой и реальностью становится все очевиднее. Естественно, что рейтинг Лукашенко начинает стремительно катиться вниз. Воздушный шар, надутый народными мечтами о справедливости, дает течь и начинает падать. Что же может делать в этих условиях человек с опытом и психическими особенностями Лукашенко? Естественно, бороться один против всех.
Лукашенко борется с пересидевшим все сроки парламентом, требуя его самороспуска. Со средствами массовой информации, устраивая чистки на телевидении, снимая неугодных ему редакторов государственных газет и воздействуя экономически на негосударственные издания. С Конституционным судом. Вообще — со всеми. В стране начинается гротескная шпиономания — сначала обнаруживаются турецкие и польские шпионы, затем сбивается спортивный воздушный шар, о появлении которого Белоруссию специально предупреждали, и жертвой начинающейся паранойи становятся несчастные американские спортсмены. И, как это происходит со всеми аналогичными фигурами в аналогичных ситуациях, у Лукашенко усиливаются страхи. Во время избирательной кампании он сам придумал покушение на себя, но сейчас он боится реального покушения — материализации его фантазии, и охрана президента усиливается до небывалых в Белоруссии масштабов.
Целью этой борьбы все больше становятся просто концентрация власти, установление авторитарного режима. Но у Лукашенко нет никаких реальных сил и организационных механизмов для формирования такого прочного режима — нет своей партии, нет опоры в армии и КГБ, нет даже какого-то, пусть небольшого, костяка действительно преданных ему людей. Поэтому без народной любви он обойтись не может. А эта народная любовь быстро исчезает. Ее надо как-то поддерживать. Но как? Тут возникает очень интересный парадокс. Как человек глубоко советский и народный, как «стихийный материалист», Лукашенко всегда говорил, что главное — это народное благосостояние и подъем производства, а не всякие языковые проблемы, возрождение нации и суверенитет — столь дорогие сердцам далеких от народа интеллигентов из БНФ. Но как раз в материальной сфере он абсолютно ничего, кроме нового рывка цен, народу дать не смог. В социально-экономической сфере вести борьбу за народную любовь он не в состоянии — она заведомо проиграна. И именно «материалист» Лукашенко стремится к максимальному перенесению политического противостояния в сферу символическую, лозунговую. И здесь ему удается одержать еще одну блистательную победу и временно поднять свою популярность.
Приближаются выборы в новый парламент. Лукашенко, ясное дело, это не по душе. Он делает все возможное, чтобы новый парламент был как можно более безопасен: принимается закон о выборах, не допускающий никаких партийных списков (с неорганизованными одиночками иметь дело легче), резко ограничиваются возможности проведения избирательной кампании, что дает преимущество людям с местной известностью и властью. А чтобы выборы вообще не состоялись, Лукашенко фактически прямо призывает людей не голосовать: «Все равно все воруют и воровать будут». Но всего этого кажется мало. И тут ему приходит в голову блестящая мысль — связать выборы с обещанным во время избирательной кампании референдумом по вопросу о государственной символике и о русском языке как государственном языке наряду с белорусским. Почти все лукашенковские фразы — своего рода перлы (в Белоруссии они называются «лукашизмами»), и эта идея была выражена им так: «Если тут, на верхотуре кое-кто начал играться, так давайте Лукашенко будет выполнять свое предвыборное обещание» («Белорусская деловая газета», 1995, № 10). К вопросам о языке и символике он добавляет вопросы об одобрении политики президента, направленной на экономический союз с Россией, и о наделении президента правом распускать парламент. Перед референдумом и выборами по телевидению демонстрировался фильм, где белорусские националисты под той самой символикой, мнение о которой предлагалось выразить, сотрудничали с немцами. Лукашенко вновь одерживает победу, получив нужные ему ответы на все вопросы и не получив, как он и хотел, нового парламента — необходимое для кворума число депутатов не было выбрано, а среди прошедших в депутаты практически не оказалось демократов. (Кворум и, соответ¬ственно, законный полномочный парламент возникает позже, в результате довыборов, когда избирается и группа представителей демократической, но не националистической, не бээнэфовской, оппозиции.) Президент на радостях публично разорвал национальный флаг, а флаг, висевший над зданием Верховного Совета, был аккуратно разорван его помощником, который поставил на каждом куске свою подпись, и затем их продавали по 50 долларов за штуку. Дальше, естественно, начинается тот же цикл. Лучше жить не стало, рейтинг снова падает, и вновь начинаются метания. При этом идея интеграции с Россией все более выходит на первый план, приобретая несколько «мистический» оттенок («славянс¬кая цивилизация» и т.п.) и какие-то фантастические, грандиозные очертания.
По целому ряду причин Россия не очень-то идет ему навстречу. Во-первых, Лукашенко, с его антизападничеством и скорее русским, чем белорусским, национализмом и связями с российской оппозицией, для Ельцина — фигура неудобная. Психологически Ельцин также, очевидно, не очень совместим с этим «энтузиастом» и «выскочкой». Во-вторых, российское руководство не может не бояться, что «возрождение СССР» поднимет волну страха в СНГ и вообще в мире, и сомнительный успех — объединение с Белоруссией, которая и без того «никуда бы не делась» — может обернуться более крупными потерями. Наконец — это, разумеется, далеко не самое важное, — но все же за объединение с Белоруссией России, очевидно, придется платить. И тем не менее, воспользовавшись предвыборной ситуацией в России, тем, что Ельцину нужно было выбить козырь из рук коммунистов («они возрождают СССР на словах, а я — на деле») и все страхи в СНГ и мире перед возрождением российского экспансионизма меркнут перед страхом «коммунистического реванша», Лукашенко добился своего, став даже первым (естественно, номинальным) главой российско-белорусского Союза.
В упорном, преодолевающем все преграды стремлении Лукашенко к союзу с Россией, в его ненависти к белорусскому национализму и едва ли не к белорусской независимости есть нечто гротескное и как бы «противоестественное». Гротескность вообще присуща облику первого белорусского президента, высказывания которого становятся со временем все причудливей: «На Беларусь смотрят как на спасителя славянской цивилизации, и мы должны эту цивилизацию спасти!» («Народная газета», 1995, 12 апреля). «Я далек от того, чтобы быть царем, упаси Господь. Но вы согласитесь, что от этого не отречься, особенно у нас, в Беларуси». «К президенту Беларуси прошу не подходить с обычными мерками. Для меня высшая цель — служение народу!» («Известия», 1995, 20 августа). Недавно Лукашенко заявил даже, что порядок, установленный в Германии Гитлером, — «это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента» («Известия», 1995, 25 ноября).
Но при всей гротескности объединительный энтузиазм Лукашенко — естественен и логичен. Национальное самосознание у него — такое же, как и у большинства белорусов, он ощущает себя скорее русским или «почти русским», а не представителем особого народа, «добившегося независимости». Президентство «свалилось ему на голову», как белорусам «на голову свалилось» их независимое государство. Медленная, спокойная и методичная работа по государственному и экономическому строительству — не для Лукашенко, который по своей натуре, своему социально-психологическому типу и своему опыту прежде всего — «завоеватель» и «победитель». Но при таких самосознании и психологии Белоруссия для него слишком «мала», «тесна», никаких новых побед в ней уже быть не может. Белоруссия для Лукашенко — то же, что Корсика для Наполеона или Австрия для Гитлера (между прочим, приведенное выше высказывание о Гитлере — это, конечно, не просто случайный «ляп» наивного человека, который не очень отдает себе отчет в том, что говорит. А если это «ляп», то — «фрейдистский»). В белорусской печати высказывалась точка зрения, что за деятельностью Лукашенко стоит желание, передав Белоруссию России, тем самым завоевать для себя Россию, стать не белорусским, а российским президентом. И номинально он своего добился — он уже больше, чем президент Белоруссии, он — глава Союза. Пышные торжества по случаю образования ССР — его «звездный час».
Пойдет ли он дальше, или это — конец, пик, после которого начинается падение, никто не знает. В Белоруссии, во всяком случае, атмосфера вокруг него накаляется. Демонстрации, устроенные бээнэфовцами против ССР, были больше и по масштабам, и по накалу страстей, чем это можно было вообразить. В печати же Белоруссии появляются довольно остроумные фельетоны о том, что будет на следующий день после свержения Лукашенко — как выяснится, что практически никто из назначенных им чиновников не был связан с «тираном» и подавляющее большинство ему противодействовало. Вообще, будущее и Лукашенко и Белоруссии темно и непредсказуемо, и представить себе, что Лукашенко спокойно отсидит свой срок и уйдет, так же трудно, как представить себе его свержение.
Чем бы ни завершилось правление Лукашенко, однако ясно, что ему удалось нанести новый удар и без того несчастному белорусскому сознанию. И его образ как первого президента Белоруссии будет еще долго преследовать белорусов, усиливая ощущение собственной недостаточности. Но в конечном счете Лукашенко — лишь симптом, яркое болезненное проявление глубинных белорусских проблем, мук белорусской самоидентификации.
Белорусы — трудолюбивые, честные и спокойные люди. И это не пустые слова. Есть данные, свидетельствующие, что качество рабочей силы в Белоруссии выше, чем в России, коррупции в Белоруссии, очевидно, меньше, и само возмущение ею (большее, чем в России) говорит о том, как она неприемлема для белорусов. Наконец, в отличие от нас они все-таки смогли пока что обойтись без крови. Но при всех муках и безобразиях российской жизни в ней меньше того тягостного и унизительного, что присуще Белоруссии, ибо вся борьба в России идет вокруг того, какими быть ей и русским, и при этом ни у одного, даже самого крайнего «русофоба», не возникает мысли, а нужна ли вообще Россия как самостоятельное государство, может ли она существовать, нужен ли русский язык. А для белорусов как раз это остается неясным. Муки белорусов проистекают из их неопределенного, неуверенного отношения к самим себе, а это отношение, в свою очередь, — следствие особой, сложной ситуации, в которую поставила их история.
Создать из себя нацию по типу прибалтийских наций, поляков или русских, как к этому стремились в начале века и стремятся ныне белорусские националисты, очевидно, уже не удастся. Время для этого прошло, «упущено». Когда неграмотные или полуграмотные деревенские жители говорили на белорусском языке, не зная, что это белорусский, задача националистов была относительно проста: сделать народ грамотным на этом языке, объяснить ему, что это — особый белорусский язык, «великий и могучий», что они не «тутейшие», а белорусы, и т. д. Сейчас, когда все уже грамотны и говорят на русском, когда городскому жителю американский рок куда ближе, чем народная песня, создать нацию по классической европейской модели практически невозможно. В детстве можно легко овладеть любым языком, взрослому же человеку переучиваться очень тяжело. Но точно так же, как белорусам трудно, практически невозможно, стать нацией по типу поляков или русских, так трудно им совсем отказаться от себя, стать просто русскими. Для этого время тоже упущено. Быть может, в составе Российской империи белорусы просто исчезли бы, став русскими, а католическое меньшинство «ушло бы в поляки», и идея белорусской нации сейчас воспринималась бы как исторический курьез вроде «нации сибиряков». Но длительное существование БССР, как и последние четыре года независимости, уже никуда из памяти не денутся. И как ни хочется сейчас большинству белорусов «приткнуться к России», полной ликвидации своего государства может хотеть лишь меньшинство. Даже если представить себе, что Белоруссия в силу каких-то обстоятельств станет просто частью России, это ничего не решит — останется белорусское «сознательное меньшинство», а в большинстве очень скоро возникнет сожаление об упущенных возможностях.
Но если некоторая «этническая неопределенность» никуда не исчезнет, остается только один путь — привыкнуть к ней. Сейчас белорусы проходят через очень болезненный период. Но «привыкание к независимости» все же идет, и даже Лукашенко, просто фактом своего существования, создает некоторую привычку к особой белорусской истории, особому государству. Между тем новое подрастающее поколение, как показывают многочисленные опросы (и что вполне естественно), склонно к меньшей ностальгии по СССР и к восприятию белорусского государства как данности и даже как ценности, а число тех, кому привыкнуть к этому особенно трудно (в Белоруссии пенсионеры составляют 25 процентов населения и 30 процентов электората), с каждым годом естественно уменьшается. Если Белоруссия как-то «протянет» еще лет пять и в ней придут к власти более «спокойные» люди, она станет привычным и уже неуничтожимым элементом европейской политической жизни. И наряду с большим Российским государством прочно укоренится и перестанет восприниматься как некая проблема маленькое «почти русское» белорусское государство, как стало привычным и перестало восприниматься как проблема существование рядом с большой Германией маленькой Австрии, тоже не совсем вписывающейся в классическую модель национального государства и тоже прошедшей в свое время через муки самоидентификации и привыкания к самостоятельности. А будет ли оно в особых отношениях с Россией, оформленных как ССР, или это странное образование, «равноправное объединение Гулливера и лилипута», окажется нежизнеспособным — это не так уж важно.